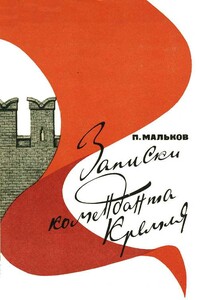В августе 1918 года я привез Владимира Ильича в Политехнический музей, где собрались на политический доклад красноармейцы. Кругом было шумно, народу было очень много.
У всех двенадцати входов стоят вооруженные люди. Перед центральным подъездом какой-то грозный матрос с карабином на плече и патронташем на груди проверяет пропуска и сдерживает толпу. Но сдерживать напор становится все труднее, люди ломятся в дверь, и на помощь матросу пришли красноармейцы.
В самый разгар этой катавасии к матросу с трудом пробрался скромно одетый гражданин в черной кепке, пытаясь что-то объяснить. Но голос его тонул в общем хаосе. Матрос не удостаивал внимания настойчивого гражданина в кепке. Его, как и других, под напором толпы относило в сторону.
– Товарищи, пропустите меня! – во весь голос кричит гражданин, подпираемый с одной стороны толпой, а с другой – красноармейцами. – Разрешите пройти!
Матрос, наконец, обратил внимание на гражданина в кепке и крикнул ему:
– Вам куда? Профсоюзную книжку предъявите!
– Пропустите меня, пожалуйста, – твердит гражданин. – Я – Ленин.
Но голос Ленина тонет в шуме, внимание матроса уже устремлено в другую сторону. Один из красноармейцев все-таки расслышал имя и зычно произнес на ухо матросу:
– Да погоди ты! Знаешь, кто это? Ленин!
Матрос шарахнулся в сторону, и вмиг образовался проход. Владимир Ильич благополучно пробрался внутрь здания, где его нетерпеливо ждали фронтовики.
* * *
Для Владимира Ильича была очень характерна одна черта: полное отсутствие надменности, кичливости, высокомерия. Говорил ли он с наркомом, с крупным военачальником, с ученым или крестьянином из глухой сибирской деревни – всегда он оставался простым, естественным, по-человечески «обыкновенным». Его жесты, улыбка, шутки, задушевный тон – все мгновенно располагало к нему, устраняло натянутость и создавало атмосферу дружелюбия.
Владимир Ильич любил рассказывать потешные историй, особенно из далеких времен детства и периода эмиграции, но любил и слушать других. Слушая, он неожиданно задавал вопросы, вставлял шутливую фразу и заразительно смеялся.
Скрытным, замкнутым или неискренним никак нельзя было оставаться в присутствии Ленина, – проницательные, чуть прищуренные его глаза как бы срывали с вас завесу натянутости или скрытности, требуя откровенности и правды. Он был очень добрый и чуткий человек.
Был случай, когда я проезжал с Владимиром Ильичом по Мясницкой (сейчас Кировской) улице. Движение большое: трамваи, автомобили, пешеходы. Еду медленно, боюсь наскочить на кого-нибудь, все время даю гудки, волнуюсь. Вдруг вижу: Владимир Ильич открывает дверцу машины, на ходу добирается ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, садится рядом и успокаивает меня:
– Пожалуйста, не волнуйтесь. Гиль, поезжайте, как все.
На даче, по утрам, когда я готовил машину к отъезду, Владимир Ильич часто помогал мне, и не советами, а делом, руками. Пока я возился у мотора, Ильич, стоя перед насосом, накачивал воздух в камеры, причем делал это энергично и с удовольствием.
Бывало в пути, где-нибудь на Каширском или другом шоссе, застрянет машина и приходится менять колесо или ковыряться в моторе. Владимир Ильич спокойно выходил из машины и, засучив рукава, помогал мне, как заправский рабочий. На мои просьбы не беспокоиться он отвечал шутками и продолжал свое дело.
В годы ожесточенной гражданской войны ощущалась острая нехватка горючего. Город Баку захватили белые, начался «бензинный голод». Приходилось работать на скверном горючем – газолине, засорявшем мотор и приводившем к порче машины.
– Почему так часто останавливаемся? – спрашивал Владимир Ильич. – В чем дело?
– Беда, Владимир Ильич, отвечал я. – Для машины необходимо легкое горючее, бензин, а пользуемся мы этой дрянью – газолином. Что поделаешь!
– Вот как! Как же выйти из положения? – и тут же прибавлял: – Придется потерпеть.
Когда Баку вновь стал советским, в Москву на имя председателя Совнаркома Ленина прибыла цистерна с отличным бензином. Узнав об этом сюрпризе, Владимир Ильич сказал:
– Прекрасно, товарищ Гиль, прекрасно! Но к чему нам столько бензина? Надо поделиться с другими.