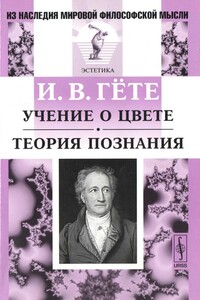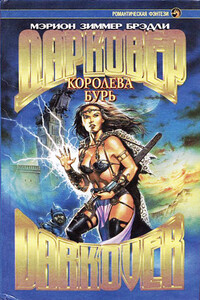Имя и заслуги Шекспира принадлежат истории поэтического искусства, и было бы несправедливо по отношению ко всем драматургам старого и нового времени видеть всю его заслугу только в деятельности на поприще театра.
Общепризнанный талант может использовать свои способности и в достаточной мере проблематично. Не все, что делает превосходный мастер, сделано превосходно. Так, Шекспир, неотъемлемо принадлежащий истории поэзии, в истории театра участвует только случайно. Если на первом поприще ему можно, безусловно, воздать все почести, то на втором нужно принять во внимание те условия, к которым он применялся, и отнюдь не расценивать их в качестве добродетелей или образцов для подражания.
Мы различаем родственные виды поэзии, которые, однако, часто сливаются при живой обработке материала: эпос, диалог, драма, театральная пьеса друг от друга отличны. Эпос должен изустно передаваться толпе кем-нибудь одним; диалог — это разговор в замкнутом кругу лиц, который разве только доходит до слуха толпы; драма — разговор, связанный с действием даже тогда, когда она разыгрывается лишь перед воображением; театральная пьеса объединяет все эти три вида, поскольку они обращаются к зрению и воспринимаются при наличии определенных условий, места действия, действующих лиц.
Произведения Шекспира в этом смысле принадлежат к наиболее драматичным; своей манерой выворачивать наружу внутреннюю жизнь он как никто захватывает читателя; требования сцены кажутся ему не стоящими внимания, он приспосабливает их к себе, и вместе с ним (разумеется, в духовном смысле) приспосабливает их к себе и читатель. Вместе с ним мы перескакиваем из одной местности в другую; наше воображение восполняет все промежуточные действия, которые он выпускает, и мы даже благодарны ему за то, что он возбуждает столь благородными средствами наши духовные силы. Тем, что он преподносит нам все в театральной форме, он облегчает работу воображения, ибо мы лучше знакомы с «подмостками, изображающими мир», чем с самим миром. Даже о самом необычайном из того, что мы читаем или слышим, мы думаем, что оно все же когда-нибудь сможет там, на подмостках, развернуться перед нашими глазами; отсюда — часто, правда, почти всегда неудачные — переработки излюбленных романов в пьесы.
Но, по существу, театрально лишь то, в чем нам одновременно видится символ: значительное и важное действие, указывающее на другое, еще более значительное. Что Шекспир достиг и этой вершины, явствует из такой сцены, как та, в которой сын и наследник забирает у смертельно больного, задремавшего короля лежащую рядом с ним корону, надевает ее и величаво удаляется. Но это только отдельные моменты, отдельные рассыпанные драгоценности, перемежающиеся множеством нетеатральных положений. Весь образ действия Шекспира противоречит самой сущности сцены. Его великий талант — талант эпитоматора. А так как поэт всегда является эпитоматором природы, то нам и здесь приходится признать великую заслугу Шекспира; мы только отрицаем, и это к его чести, что сцена была достойным поприщем для его гения. В то же время узость сцены призывает его к известному самоограничению. При этом он не выбирает, подобно другим поэтам, особых сюжетов для каждой отдельной работы, а ставит в центр пьесы известную идею и заставляет служить ей весь мир и всю Вселенную.
Вокруг одной идеи стягивает он старую и новую историю и с радостью пользуется любой хроникой, часто придерживаясь ее почти дословно. Не так добросовестно поступает он с новеллами, о чем свидетельствует «Гамлет». «Ромео и Юлия» ближе к первоисточнику; но в ней он почти совершенно разрушает трагическое содержание новеллы, вводя две комические фигуры, Меркуцио и кормилицу, которых, по всей вероятности, играли два излюбленных актера, причем мужчиной исполнялась, по-видимому, и роль кормилицы. Ближе всмотревшись в скупое построение пьесы, мы видим, что эти два образа и все, что с ними соприкасается, выступают в качестве фигур шутовской интермедии, которая нам теперь при нашей любви к последовательности и единству показалась бы невыносимой.