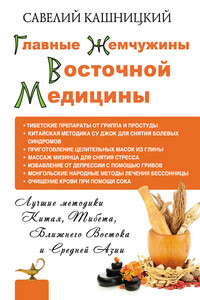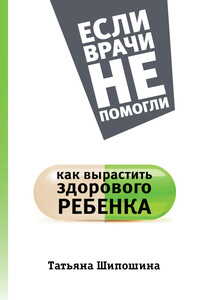И вот он идет по улице, помахивая кошелкой.
«Подобревшая после бани душа Семена Григорьевича особенно остро, в каком-то радостном и немного детском свете первооткрытия воспринимала все, что происходило вокруг. Вот он поравнялся с ротой солдат в новых шапках-ушанках и добрых четверть часа шел с рядом с солдатами, машинально шагал в ногу, стараясь не отставать от рослого старшины, замыкавшего строй».
Впечатляюще описание русской бани в «Плотницких рассказах» Василия Белова.
«В бане уже стоял горьковатый зной. Каменка полыхала могучим жаром… Угли золотились, краснели, потухая, и оконный косяк слезился вытопленной смолой…».
Но вот труба закрыта. Вместе с автором мы любуемся слабым мерцанием углей, подернутых пепельной сединой.
«Вероятно, — пишет Василий Белов, — нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем. Летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим запахи июня березовым веником. Землей, оттаявшей под полом каменки. Какой-то родимой древностью. Тающим снежным холодом…»
С тонким знанием автор описывает русскую банную «одиссею». Вначале разуться, слегка замерзнуть. Потом на полок в сухой, легкий и ровный жар, вздрагивая от подкожного холода. Первая проба — ковшик воды в каменку. «Валуны отозвались коротким и мощным шумом… Каменка зашумела, сухой, нестерпимый жар ласково опалил кожу. Я ошпарил веник, отчаянно взобрался на верхний полок и вмиг превратился в язычника: все в мире перекувырнулось, и все приобрело другое, более широкое, значение».
Не только в прозе, но и в поэзии «возносится хвала» русской бане.
Как не вспомнить знаменитый «Мойдодыр» Корнея Ивановича Чуковского, на котором воспитывалось не одно поколение. Гимн чистоте!
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде —
Вечная слава воде!
Одно из стихотворений выдающегося белорусского поэта Петруся Бровки так и называется: «Баня».
От села и до села
Ей возносится хвала.
Смыть усталость пыль и пот
В баню тянется народ.
Шайку в руки — и давай!
Мыло хлещет через край
Грязь и копоть без следа
Смоет щедрая вода
Взявши веник, на полок
Заберись под потолок.
Охлестнись разок другой,
— С легким паром, дорогой!
Верьте мне и млад и стар
Всем полезен этот пар.
А разве забудешь нашумевшее стихотворение Ан Вознесенского «Сибирские бани»!
Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.
Прямо с пылу прямо с жару —
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
До таких сибирских «ню»!
В знаменитом «Василии Теркине» Александра Твардовского есть глава под названием «В бане».
На околице войны —
В глубине Германии —
Баня! Что там Сандуны
С остальными банями!
Советские солдаты-победители соорудили вдали от Родины русскую баню. Запоминаются строки: «Банный пар занес окно пеленой тумана». Или: «Пар бодает в потолок, ну-ка, с ходу на полок!» А далее четверостишье:
В жизни мирной или бранной,
У любого рубежа,
Благодарны ласке банной
Наше тело и душа.
Поэт живописует «пар, на славу молодецкий», русскую удаль, закалку:
На полке, полке, что тесан
Мастерами на войне,
Ходит веник жарким чесом
По малиновой спине.
Человек поет и стонет,
Просит:
— Гуще нагнетай. —
Стонет, стонет, а не донят:
— Дай! Дай! Дай! Дай!
И завершение главы:
Пропотел солдат на славу,
Кость прогрел, разгладил швы,
Новый с ног до головы.
Русская баня, березовый веник настолько утвердились в нашем сознании, имеют такие глубокие традиции, что вызывают всевозможные жизненные ассоциации. Например, в знойный день мы говорим: «Жарко, как в бане». А у Бориса Пастернака в стихотворном цикле «Тема с вариациями» родились такие необычные строки:
Раскатывался балкой гул,
Как баней шкваркнутая шайка.
Поэт Сергей Островой в стихотворении под названием «Естественность» пишет:
Село солнце на пенек.
Стало утро розовым.
Громко парится денек
Веником березовым.
«Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!» — говорил А. С. Пушкин. «Пословицы всегда кратки, а ума и чувства вложено на целые книги», — восхищался А. М. Горький. А выдающийся советский физик С. И. Вавилов отмечал, что наблюдательность народа запечатлена в многочисленных пословицах и загадках, построенных, по существу, на наблюдениях научного порядка.