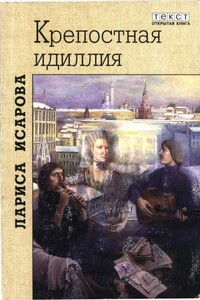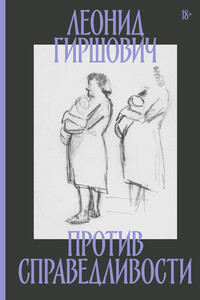Израиль, Израиль,
Израиль — вольные края.
Израиль, Израиль,
Израиль — Родина моя, —
а ветер донесет недопетую песню.
(Подпись.)»
Зубами выдернув из трусов резинку, Юра крест-накрест стянул ею исписанный снаружи конверт со вложенными в него авиабилетами, паспортами и израильскими деньгами, сунул пакет в карман и вышел. За сочинительством время пролетает незаметно, куда дольше оно тянулось для Григория Иваныча, который чуть не сбил Юру с ног, когда тот открыл наконец дверь.
Юра увидел спирохету альбу: Нина, с башней коробок до подбородка, спускалась по лесенке вслепую, ступая оттого на правую ногу, как на протез. Будь Юра наблюдательней, он бы поразился: на коробках стояло «
». Следом за Ниной с грузом всяческой кошерности спускалась Зайончик, за Зайончик — Гордеева, Отрадных и другие.
Были уважены религиозные чувства мнимых израильтян: «У Гольденбэрга» предъявят префектуре полиции приличный счет за всякие кишкес, эсик-фляйш, грибанес с желтком, колобочки, бульончики, креплах, тейглах, шанишкес и прочие шедевры польско-еврейской гастрономии; а также за разные напитки, включая вино марки «Бейлис» — для киддуша.
Юра, пропустив их, поднялся — еще раз кинуть взгляд на Париж, может быть, прощальный. Трусы без резинки укорачивали шаг, а их подтягивать неудобно, тем более поминутно подтягивать. Тайно стреноженный, вышел он на площадку, тайно стреноженный и в прямом смысле — трусами, и в переносном — страхом высоты. Последний вздувался, как на опаре. Юра стоял, не в силах шелохнуться — даже оглянуться из простой предосторожности: на него снизу смотрел удав. «Израиль, — напел про себя кролик слабым голосом, чуть ли не умоляюще. — Израиль, Израиль — вольные края…»
Так ходят люди только в мультфильме — как задвигался Юра: неспешно, на чудо-суставах. Так важно достают они из широких штанин дубликатом бесценного груза тугой, крестообразно перетянутый резинкой — еще от советских трусов — белый конверт «Европа турс». Уже рука поднесена к щели между сеткой и парапетом, парапет испещрен именами и сердечками ничуть не меньше, чем
Но белый конверт так и застыл над бездной — пальцы свело. Еще немного… ну… «Израиль — вольные края…» А в ответ суровое: «Шел солдат, друзей теряя». И все. И хоть ты тресни.
Эти проклятые, эти узкие, эти белые барки, что пришвартованы только с одного берега — в два ряда. Как и пальцы, разлепить бы их, разделить поровну между обоими берегами Сены. Как всем сестрам по серьгам, так каждой набережной бы по ожерелью: нитка барок слева — нитка барок справа.
До сих пор за ним никто не наблюдал, никто не видел, что он собирается (и одновременно бессилен) сделать, но с каждой секундой опасность быть пойманным «с поличными» возрастала. Сколько он уже так стоит — стрелка-то часов не охвачена столбняком, она-то тикает себе. Как привязанному к рельсам в любом звуке чудится приближающийся поезд, так и Юре слышатся позади мужские гортанные голоса… Одно движение кисти, каким мечут кости, — и там выпало бы сразу двенадцать очков. Кто бы поверил, что настолько трудно это сделать, что невозможно это сделать даже под страхом смерти… И вдруг стало возможно — подумал, что три голубых «герцля» только так и удастся сохранить. Повторяем, алчность — зло, чреватое массой побочных явлений благодетельного свойства. Наделяет мужеством — алчность. Исцеляет судороги — как мы увидим — алчность. Алчность чудеса творит.
На основе израильского опыта Юра представлял себе, что делается внизу, на земле, — если уж в небе все время жужжат как минимум три вертолета: площадь под Эйфелевой башней очищена от туристов и оцеплена, полицейских и коммандос нагнали видимо-невидимо. Все просматривается. Падение предмета с Эйфелевой башни не может остаться незамеченным. Предмет будет тщательно исследован, содержимое его — если это, скажем, бумажник или конверт — учтут и возвратят законному владельцу при первой же возможности. Что таковой вдруг не представится — этого Юра не допускал. В общем-то он был спокоен: бабы — русские, те — арабцы, разыгрывалась комедь. А вот кто он — через секунду это будет уже не узнать.