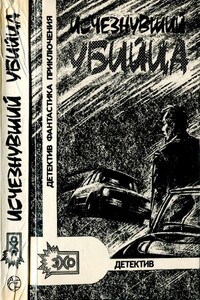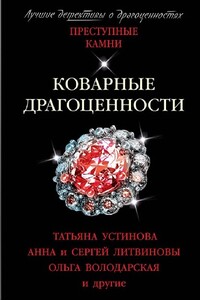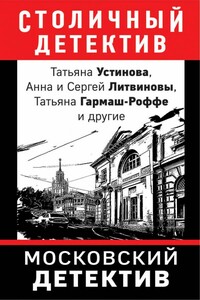Сфинкс. Приключения Шерлока Холмса - страница 6
Я снова в библиотеке, и снова один. Как будто пробудился от бессвязного и волнительного сна. Я видел, что теперь полночь, и знал наверняка, что на заходе солнца Береника была погребена, однако о том, что было после, за все это скорбное время, я не имел четкого да и вообще никакого представления. И все же память о нем была насыщена ужасом, ужасом оттого ужаснее, что был он неуловим, и страхом, страхом оттого страшнее, что был он неясен. То была пугающая, жуткая страница моего существования, вся измалеванная неясными, отвратительными, неразборчивыми воспоминаниями. Как ни силился я расшифровать их – тщетно; но время от времени призраком утихнувшего звука истошный, пронзительный женский визг слышался мне. Я что-то сотворил… Но что? Я задал себе этот вопрос вслух, и пустынный зал ответил, вторя мне шепчущими отголосками: «Но что?»
На столе рядом со мной горела лампа, а около нее стояла небольшая коробка. Ничего особенного в ней не было, я и раньше ее часто видел, принадлежала она семейному врачу, но как она попала сюда, на мой стол, и почему, когда я ее увидел, меня бросило в дрожь? Этому я не мог дать объяснения, и мой взгляд упал на раскрытую книгу и подчеркнутое предложение на ее странице. То были удивительные, но простые слова поэта Ибн-Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Но отчего, когда я прочитал их, волосы зашевелились у меня на голове и кровь застыла в жилах?
В дверь библиотеки тихо постучали, и в зал неслышно вошел бледный как покойник, лакей. Глаза его были полны безумного ужаса, и обратился он ко мне голосом дрожащим, хриплым и очень тихим. Что сказал он? Я расслышал несколько обрывочных предложений. Он рассказал о диком крике, потревожившем ночную тишину, о том, как слуги собрались в зале, о том, как они пошли туда, откуда слышался крик; а потом голос лакея сделался поразительно отчетливым, когда он зашептал об оскверненной могиле – о скорчившемся теле, окутанном саваном, но все еще дышащем – еще вздрагивающем – еще живом!
Он указал на мое облачение, оказалось, оно было в грязи и пятнах запекшейся крови. Я не промолвил ни слова, и он осторожно взял меня за руку: следы от человеческих ногтей покрывали ее. Он обратил мое внимание на предмет, прислоненный к стене. Несколько минут молча смотрел я на него: то был заступ. А потом я с криком кинулся к столу и схватил коробку. Открыть ее я не смог, но руки мои до того дрожали, что она выскользнула у меня из пальцев, тяжело упала и разлетелась на куски. Из нее со звоном высыпались несколько зубоврачебных инструментов, а вперемежку с ними – тридцать два маленьких белых, точно вырезанных из слоновой кости предмета – они рассыпались по всему полу.
Метценгерштейн
Pestis eram vivus – moriens tua mors ero.[15]
Мартин Лютер[16]
Ужас и рок во все века бродили по разным странам. Так стоит ли говорить, когда произошло то, о чем я буду повествовать? Достаточно сказать, что в то время, о котором я веду рассказ, во внутренних районах Венгрии укоренилась, правда, скрытая вера в доктрины метемпсихоза. О самих доктринах, то есть об их ложности либо же об их правильности, я говорить не стану. Однако вслед за Лабрюйером[17], рассуждавшим о человеческом несчастье, я утверждаю, что большая часть нашего неверия «vient de ne pouvoir etre seule»[18].
Однако в суеверии венгров есть определенные особенности, которые граничат с абсурдом. Они (венгры) очень отличались от своих восточных правителей. К примеру, душа, утверждали первые (и тут я приведу слова одного весьма проницательного и образованного парижанина), «