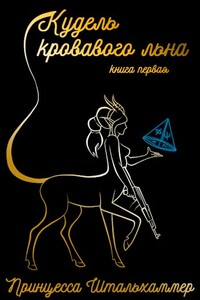Итак, три черты. Громатов. Неизвестный. И этот, горный инженер… Да, Шапиро.
Что их объединяет? Двое были близки к жертвам. Насчет третьего — неизвестно, мог быть кто угодно.
Потом — Синицкий и Лобацкий. Еще две черты.
Если лейб-гвардеец подходит в близости к императору, то напавший на меня с дядей казначей был лицом случайным.
Так-так-так.
Я почувствовал азарт. Что-то маячило, маячило на границе понимания. Ухватить бы.
Ноготь на мизинце щелкнул под зубами.
Пять убийц. Как минимум, трое с пустой кровью. Предположим, что все пятеро. А что нам это дает? Что дала Громатову и Шапиро пустая кровь? Что дала Синицкому?
Я замер.
Силу. Ах ты ж, Ночь Падения! Силу она дала!
Получилось бы у Громатова без пустой крови убить носителя великой фамилии? Нет! Уж на что стар был Меровио, а настроение и мысли секретаря почуял бы сразу. Громатов не то что ножом махнуть, приблизиться бы не смог.
Высшая кровь — не расхожее словосочетание.
В гостях-плену у Гиль-Деттара я на спор, с завязаными глазами, «держал» двух шахар-газизов, которые пытались расстрелять меня из ружей.
Блистательные шахар-газизы, попадающие в суслика или голубя со ста шагов, бесславно мазали с тридцати.
О, они целились, они намечали: сердце, лоб или горло, они не дыша выбирали спусковые крючки.
Я же лишь слегка поправлял их.
Десять выстрелов. Десять возгласов, полных обиды и недоумения. Десять свинцовых шариков в глинобитную стену слева и справа от меня.
Тяжелый взгляд Гиль-Деттара ощущался даже через повязку…
Наклонившись, я приоткрыл штору.
Туман растаял. Улица и дом напротив казались невозможно резкими. Темнели окна. Светил газовый фонарь. Тень его шлагбаумом лежала на мостовой. Шарабан пропал.
Дождался пассажира?
Легкий стук в дверь заставил меня метнуться к «Фатр-Рашди» под подушкой.
— Кто там?
— Я, господин, — шепнули из-за двери.
Я сдвинул засов.
Кровник шагнул в комнату. В свободной рубахе. В подштаниках. С накрытым полотенцем подносом в руках. С огарком свечи в плошке сверху.
— Что это? — спросил я.
— Ну, я чую, не спите… — Майтус повертел головой. — Волнуетесь… А не евши целый день. Разве ж можно не евши?
— На столик, — подсказал я ему, куда ставить поднос.
— Ага.
Он с готовностью подчинился.
Потом снял полотенце, что-то поправил там, что-то переложил, чем-то негромко звякнул. Замер. Снова склонился.
— Майтус… — позвал я.
— Да?
Майтус повернулся ко мне. Лицо его было спокойным, расслабленно-сонным.
— Когда отец сделал тебя кровником?
— Так это… — он потер щеку. — Две седьмицы назад.
— И ты согласился?
— А чего б нет? Я, сколько помню, все при нем…
— А семья?
— Так нет у меня семьи. — Майтус потискал полотенце. — Умерли. Давно уж.
Я сел на постель.
— Извини.
— Да чего там… — Майтус подал мне миску с теплым картофелем. — Кушайте, господин.
— Сядь рядом, — сказал я ему.
Майтус осторожно присел на край, сложил кисти рук на коленях.
Я откусил картофелину, пожевал. Потрескивали фитили. Майтус смотрел в стену. Казалось, что и не дышал.
Рыжеватые усы. Золотящийся глаз.
— Дай руку, — отложив миску, я протянул ладонь.
— Да, господин.
Я закатал левый рукав Майтусовой рубахи.
Поперек запястья бугрилась широкая продолговатая короста. Жесткая, неприятно свекольного цвета. Свежая. А сквозь нее проглядывала бирюза.
Ящерка.
Я колупнул коросту пальцем. Ящерка внутри раскрыла пасть.
Ишь какая! Своих не узнает.
— Как это было, Майтус? Что отец говорил?
— Господин показался мне испуганным.
— Что?
Майтус кивнул.
— Господин сказал: ложись. Я лег. Железо холодное. Вода холодная. Господин нож мне подал, а я взять не могу, пальцы…
Он мотнул головой. Ему было стыдно за ту свою слабость.
— А потом?
— Потом взял. Господин сказал: успокойся, режь быстро, но не глубоко. Положил мне ладонь на затылок. Сказал: вдохни. Я вдохнул. Сказал: режь. Я и чиркнул. А он сказал: вот и хорошо.
Я снова колупнул коросту.
Майтус поморщился, но отдергивать руку не стал.
— Больно?
— Жжется, господин.
Я заглянул ему в глаза.
— Майтус, мне нужно точно знать, что тебе говорил отец. Почему он был напуган. Что его испугало.
— Он сказал, что ошибся.
— В чем?
— Не знаю, господин. Я ослабел. Я плохо слышал.