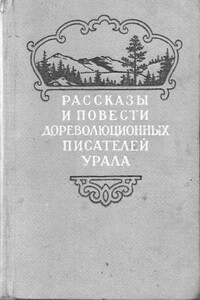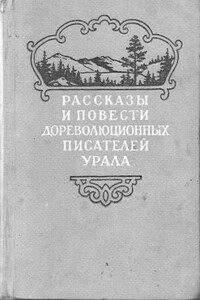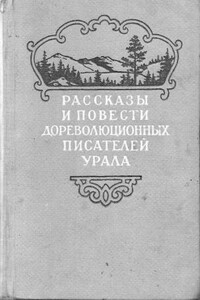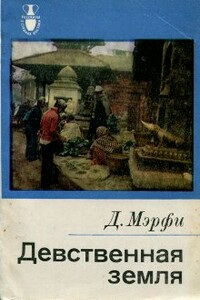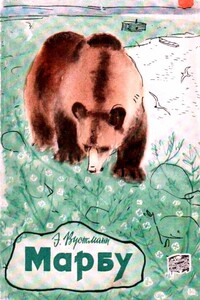Дамы торопятся угостить ребятишек, те охотно, уже не стыдясь особенно, подходят к ним за лакомствами. Мы, мужчины, угощаем Василия Ивановича с женой водкой и винами, и через несколько минут устраивается веселый кружок у огня в обществе остяков, которые наперерыв стараются нам угодить и совсем не отказываются ни от водки, ни от чаю.
Василий Иванович пускает весь запас русских слов в разговор. Мы расспрашиваем его, как он промышляет рыбу и зверя, наши дамы расспрашивают его хозяйку, как она из крапивы сделала себе такую красивую материю на рубашку и сшила себе жилами олений костюм.
Происходит общее знакомство, дети втираются в наш кружок, и через полчаса подвыпивший наш хозяин, совсем распахнув свою мохнатую грудь, уже показывает наглядно, за недостатком слов, как он скрадывает в лесу дикого оленя; берет со стены кремневое ружье, показывает, как он всыпает в него, увидав уже зверя, заряд пороха, как откусывает кусочек свинца и забивает шомполом, как ползет, подкрадывается, — при чем он ложится перед нами на пол и начинает, действительно, ползти, — как прячется за дерево, за кусты, как разглядывает зверя, объясняя нам вполголоса, что это мать с детенышем, как осторожно привстает и прилаживается для прицела, при чем ему подают вместо дерева какое-то полено, как целится и спускает курок, как вскакивает, бежит докалывает раненого зверя, как сдирает с него кожу, пьет горячую кровь, и, наконец, ест его внутренности.
Он разошелся, он в ударе, и его рассказы, живые, наглядные, поучительные, так и рисуют перед нами всю его несложную, но полную движения, интереса жизнь, которую он проводит, непрестанно наблюдая: то рисуют жизнь животных, которую он знает в совершенстве лучше всякого зоолога, то жизнь лесных птиц, уловки и обычаи которых он знает лучше всякого натуралиста, то рыб, жизнь которых не укрылась от него и под водой, в тенистых водорослях, в глубине рек, озер, речек, где он постоянно наблюдает их, когда возится с сетками, мордами, разнообразными снарядами для их ловли, искусно приноровленными им к характеру и обычаям рыб всякого рода, вида и размера.
И мы заслушиваемся его рассказами о бесчисленных наблюдениях этой незнакомой нам природы и завидуем, что она ему открыта лучше, чем нам в книгах, нагляднее, проще, яснее, занимательнее.
Вон он берет и тащит к нам кучу мерзлой рыбы и высыпает на пол перед огнем камина. У наших ног ерши, окуни, нельмы, налимы, сырки. Все они скорчились, все они в разных позах, какими их застала смерть на морозе, в тот момент, когда их вытряхнула рука остяка из родной стихии и сетки на лед. У окуня белые глаза, у ерша раскрыт рот и поднята щетина, словно он еще боролся, сердился перед смертью за лишение свободы, у налима завит крючком хвост, словно вот-вот он еще старается при помощи его ускользнуть в воду, у нежной нельмы прямое сложение, словно она в обмороке, у сырка раскрытая пасть, словно он кричит, что его душит холод. Но нашего рассказчика это не занимает: он начинает нам объяснять, как профессор в университете, наглядно, что это за сорта рыбы, где она живет, что ест. И нужна не одна эта статья, чтобы передать все его рассказы, которые заняли нас лучше всякой книги.
Его лекция кончается тем, что он начинает нам показывать опыт оживления замерзшей рыбы, которую мы считали уже мертвой.
Он загораживает ее от жарких лучей чувала, отделяет из нее более живучих налимов, и не проходит получаса, как налим начинает раскрывать рот, шевелить перышками и, пущенный в воду, через несколько минут уже там плавает и даже бьет хвостом.
Я помню, этот опыт оживления налима нас так тронул, что мы все решили дать этому налиму полную свободу и велели его отнести и спустить в ближайшую прорубь. Пара ребятишек с радостью взялись это исполнить, и наш воскресший налим, которого бы сварили так же, как и его несчастных товарищей вместе с ершами нам на уху, через минуту же был спущен в реку Обь, в прорубь, в родную стихию и даже всплеснул от радости хвостом, как это передали нам ребятишки, исполнившие это поручение.
Мы не заметили, как пролетел короткий зимний северный денек, и хватились посмотреть на часы только уже тогда, когда солнце стало садиться.