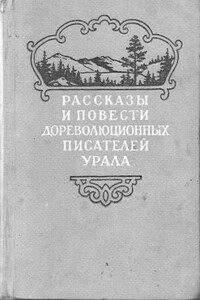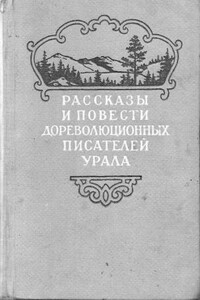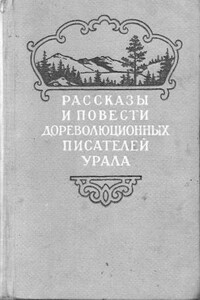— Зайца, зайца несет! — вдруг послышался голос Андрея, и он бросился стремглав под берег и побежал к группе мужиков, которые вытаскивали лодки.
— Заяц! Заяц! — закричали радостно ребятишки.
Я всматриваюсь и с трудом замечаю припавшего к льдине перепуганного, мокрого зайца.
Андрей громко что-то кричал там, внизу, на берегу. Мужики смеются; но вот лодка лихо двинута на мутную несущуюся воду; весла заработали. На носу сидел Андрей, готовый вскочить на льдину.
— Скочит! Скочит! — кто-то заволновался в нашей, затихшей при виде этой картины, группе.
— Ох! — ахнула толпа. Андрей действительно вскочил, только что лодка коснулась льдины, упал и, казалось, провалился на секунду в воду. В толпе раздался стон. Но Андрей быстро взобрался на льдину и начал бегать и ловить зайца; наконец, ему удалось схватить его.
— Словил! Словил! Молодец!
Лодка благополучно причаливает к берегу. Толпа бежит вниз, как будто сроду не видали зайца, и через минуты две заяц, мокрый, и дрожащий от испуга, уже на берегу, в руках Андрея, который быстро поднимается на обрыв и, сопровождаемый толпою ахающих ребятишек, отпускает зверюгу на волю.
— Ай-ай-ай! Я тебя, косоглазый! Лови его! Бери его! — кричат и бегут за ним ребята, и заяц уже улепетывает, не оглядываясь, прямо в лес, сопровождаемый хохотом толпы, которая рада такому зрелищу.
Рассерженная мать Андрея бегает, хочет поймать героя нашего за ухо, но он ловко увертывается.
— Ужо ты прийди, оглашенный! — грозит она ему кулаком.
Толпа вступается за него, говорят, что он — молодец, и гнев матери проходит, — она уже смеется со всеми вместе.
На другой день Печора была чиста. Лед несло только временами, и меня отправили к селу уже на лодке. Андрей взялся проводить меня в виде передового гребца. Ребятишки с нескрываемым сожалением шли со мной молча по берегу.
Я раскланялся с добрыми людьми, поблагодарил их за гостеприимство, наказал детям не обижать пуночек и отправился в дорогу.
Дети долго еще стояли на берегу, провожая странного человека, который отпускал пойманных ими пуночек, а пуночки всю дорогу вдоль берега пели что-то мне, заливаясь веселыми, звонкими голосами.
Это было на реке Щугоре, притоке Печоры.
Случилось так, что меня покинули в Уральских горах мои проводники — вогулы, и я должен был сделать себе маленький плотик из сухого дерева в сажень длины, укрепить на нем пару колышков с перекладинкой, чтобы пристроить свой багаж, посадить на него единственного своего спутника — вогульскую лайку Лыска, и так пуститься по горной, бурной реке, на расстояние более трехсот верст, пока не встретится мне какой-нибудь рыболов зырянин, или пока не попаду по этой реке в Печору.
По крайней мере, так утешали меня мои проводники — вогулы, ни за что не решавшиеся, из боязни очутиться в „русской земле“, сопровождать меня далее Уральского хребта.
На дворе стояло настоящее лето, шли двадцатые числа июня месяца, были светлые северные ночи, и я решился.
Вот на этой-то бурной реке, которая не раз смывала меня с Лыском с маленького плотика, которая не раз заставляла меня бороться с водою, я и встретил на четвертый день пути неожиданно партию рыбаков, которые стояли на биваке.
Еще ночью, находясь на расстоянии трех-четырех верст от них, мой Лыско обнаруживал какое то мне непонятное нетерпение: то бросался вдруг с лаем вперед, то убегал куда-то прочь, словно собираясь бросить меня, то снова прибегал и ложился возле меня на берегу у плотика, который я сторожил, чтобы он не уплыл с каким-нибудь приливом.
Я думал, что его заботит зверь: в лесистых берегах довольно было медведей; но оказалось, он слышал человеческое жилье. И помню, только что мы с ним рано утром напившись чаю с сухарями, тронулись на плотике и миновали перекат, как показался синий дымок, и послышался человеческий говор.
— Лыско! рыбаки, люди впереди! — говорю я, не веря глазам.
И Лыско словно понял меня и завилял хвостом.
Несомненно, на берегу стояли рыбаки: в это время, как мне говорили вогулы, они ловят семгу…
Но лишь только я показался из-за мыска, как в становище забегали люди.