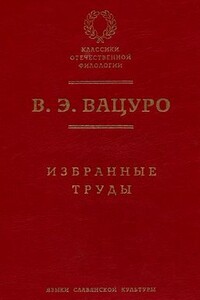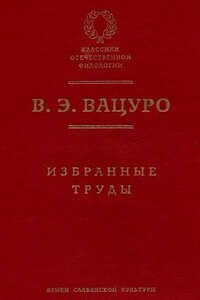Он берет в свои руки бразды и жалуется Пушкину, что Дельвиг «ленив и ничего не пишет», рассчитывая на Сомова. Сам он ведет с Булгариным войну систематическую, от номера к номеру, и, кажется, целит выше. Он намекает печатно, что «журнальные отголоски» лишь повторяют «некоторые указания» о духе партий и «литературном аристократизме», — другими словами, что самое понятие пущено в оборот политическими осведомителями. На этих тайных агентов «Александра Христофоровича» Вяземский намекал постоянно, то глухо, то совершенно прозрачно — и имел в виду конкретное лицо: Булгарина.
Он ведет себя тем более неосторожно, что приехал в Петербург, намереваясь снять с себя политические подозрения, а доступ к царю лежал через Бенкендорфа.
Вяземский написал письмо к Николаю I, выставляя себя жертвой клеветы. Николай приказал принять его на службу[385].
В этих условиях ему следовало бы, как Гречу, «сидеть тихо».
Между тем он входит в прямой контакт с газетой, за которой уже начинает пристально следить правительство, и более того, передает в нее стихи ссыльного Александра Одоевского.
Стихи были присланы Вяземскому П. А. Мухановым из Читинского острога при письме от 12 июля 1829 года, — конечно, нелегальным путем.
Петр Муханов был в Чите председателем каторжной «академии», где читали стихи и прозу, взаимно обучали языкам и слушали лекции по словесности, истории, математике, астрономии, философии, военным наукам… Здесь впервые зародилась дерзкая и неосуществимая идея литературного альманаха «в пользу невольно заключенных» — и он был почти собран. Воспоминания Михаила Бестужева донесли до нас названия написанных им повестей: «Случай — великое дело», «Черный день», «Наводнение в Кронштадте 1824 года» — и повести Николая Бестужева «Русские в Париже».
Александр Одоевский был признанным поэтом декабристской каторги. К его стихам писалась музыка, их пели вместе, в них слышали поэтический голос, говорящий за всех.
Муханов просил жен декабристов написать в Петербург, чтобы разрешили издать эти сочинения. Писали, просили; ответа не было.
Бенкендорф не входил в сношения с государственными преступниками; ходатаям же отвечал, что печатать их сочинения в журналах неудобно, так как это ставит их в отношения, не соответственные их положению.
Тогда Муханов отправил письмо Вяземскому.
Он посылал ему только стихи, рассказывал о замысле альманаха и просил помощи. «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах. Если вы их не засудите — отдайте в печать… Не знаю, дотащится ли когда-нибудь подвода с прозой»[386].
Проза не дошла, она осталась у Муханова и погибла.
Тетрадь со стихами Вяземский, по-видимому, привез с собой в Петербург. 1 апреля в № 19 газеты появляется первое стихотворение из нее «Элегия. На смерть А. С. Грибоедова».
Почти одновременно, 28 марта, цензор газеты Н. П. Щеглов читает другое стихотворение — «Что вы печальны, дети снов» — и П. И. Гаевский объявляет, что печатать столь темное и неясное по намерениям стихотворение неприлично в газете, находящейся в широком обращении. Стихи удалось отстоять — но они появились позже, под названием «Пленник» и с купюрами[387].
26 апреля печатается «Старица-пророчица», посвященная Дельвигу. 6 мая — «Узница Востока».
Они будут появляться и после отъезда Вяземского и попадут в «Северные цветы».
«Литературная газета» ведет критическую перестрелку и позиционную войну.
Она поддерживает «Монастырку» Перовского-Погорельского и «Юрия Милославского» Загоскина — бытовой и исторический романы, по методу и литературной ориентации противостоящие романам Булгарина.
Булгарин взбешен: Погорельский и Загоскин могут составить ему конкуренцию. Когда же Дельвиг резко критически оценивает его новый исторический роман «Димитрий Самозванец» — происходит взрыв.
Булгарин был убежден, что статья принадлежит Пушкину, уже уехавшему из Петербурга, — и через четыре дня после выхода рецензии в «Пчеле» появился печально знаменитый «Анекдот» — о некоем поэте, не обнаружившем в своих сочинениях ни одной высокой мысли или полезной истины, вольнодумце перед чернью и оскорбителе святынь, который тайком ползает у ног сильных, чтобы ему позволили нарядиться в шитый кафтан. Здесь был намек на «Гавриилиаду», только что бывшую предметом политического процесса.