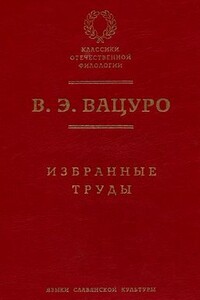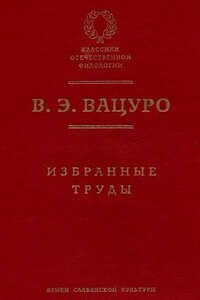С отъездом Волконской прекращал свое существование прославленный московский литературный салон. Баратынский, нередкий его посетитель, обратил к его хозяйке скорбные прощальные стихи. Дельвиг просил у нее разрешения поместить их в своем альманахе. Волконская согласилась[305].
16 февраля, в субботу, приехал Шевырев[306].
За двенадцать дней, что он оставался в Петербурге, он попытался возобновить или расширить литературные знакомства. В первый же день Мицкевич написал ему рекомендательное письмо к Жуковскому[307] — но как-то к Жуковскому ему все не удавалось попасть. Зато он побывал у Гнедича, Крылова, повидал Пушкина. Его принимали радушно, но воспоминание о неудовольствиях, полученных от петербургских литераторов, его не оставляло, и его письма в Москву походили на дипломатические реляции из враждебной страны. Он жаловался на всеобщее равнодушие — к «Московскому вестнику», к повестям Погодина — ко всему, что интересовало его самого.
24 февраля он отправился вместе с Пушкиным на воскресное литературное собрание к Дельвигу — и увидел, наконец, своих противников, задевавших его в «Северных цветах». Он говорил с Сомовым и после дружеских бесед ушел в убеждении, что доказал ему собственную правоту и его, Сомова, глупость, о чем с триумфом сообщил Погодину[308]. Он рассказал и о «Подснежнике» и о намерении Дельвига на барыш от альманаха устроить обед для петербургских литераторов и, может быть, даже выписать москвичей.
Он познакомился с Илличевским, с Подолинским, с «каким-то краснощеким Корсаком» — уже известным нам А. Я. Корсаком, приятелем М. Глинки. Он виделся с бароном Розеном и свел его, наконец, с Пушкиным в гостинице «Демут». Через несколько дней сам Пушкин пригласил Розена на дельвиговский вечер[309].
Подолинский вспоминал потом, что, проходя через дельвиговскую гостиную, он увидел сидящих вместе Пушкина и Шевырева. «Помогите нам состряпать эпиграмму», — сказал Пушкин. Подолинский торопился, и когда вновь вернулся в гостиную, эпиграмма была уже готова. Это было «Литературное известие» с полемическим выпадом против Каченовского[310].
Подолинский и Шевырев явно не понравились друг другу. Шевырев обронил в письме Погодину несколько пренебрежительных строк о своем новом знакомом; Подолинский не без яда заметил в своих мемуарах, что не стал интересоваться, насколько помог Пушкину Шевырев. С эпиграммой Пушкин справился один, тем более, что она не писалась экспромтом, а была старой, еще 1825 года[311], — но и Шевырев со своей стороны внес в кошницу Дельвига посильный вклад: он написал стихи «Партизанке классицизма», поэтический ответ Александре Ивановне Лаваль, впоследствии Корвин-Коссаковской. Лаваль упрекала поэта, что он постоянно пишет о крови и ранах. Шевырев отдал эти стихи в «Подснежник»[312].
В то время, когда происходил вечер у Дельвига, альманах собирался уже с большой поспешностью.
«Милостивый государь Константин Степанович, — пишет Сомов Сербиновичу 19 февраля. — Препровождаю к вам еще несколько стихотворений для „Подснежника“ и еще небольшую прозаическую статью. Из стихотворений одно уже вам известное, барона Розена „Черный ангел“, которому по вашему замечанию дал я заглавие „Ангел смерти“. Сделайте одолжение, скажите, можно ли в таком виде его печатать? Кажется, еще очень немногим будем мы еще вас утруждать для „Подснежника“, ибо почти все уже для него собрано и начато печатание сей книжки. С совершенным почтением и преданнос-тию имею честь быть ваш, милостивого государя, покорнейший слуга О. Сомов.
Февраля 19 дня 1829»[313].
Типография уже набирала первые листы альманаха, а последние еще не были собраны, вопреки надеждам и уверениям Сомова. «Подснежник» был альманахом-спутником, внеочередным; в нем не было литературного обзора и того, на чем так настаивал Дельвиг для «Северных цветов», — разделения стихов и прозы. Чтобы соблюсти последнее требование, нужно было действительно составить альманах полностью, на что не было времени. Отказавшись же от строгого порядка, можно было еще в середине февраля включать подоспевшие материалы.