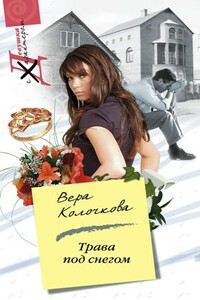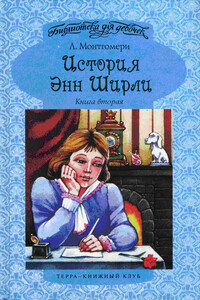– Да я и не сомневаюсь. Просто… Просто…
Он совсем уж было собрался ей рассказать, что такое значит это самое «просто», да с собой не справился. И губы затряслись предательски и сами собой поехали куда-то вбок, и глаза заволокло в один миг жгучей противной влагой, которая для настоящих мужиков издавна была позором хуже некуда, и горло заходило ходуном, будто кто сильно зловредный тряс и тряс его изнутри жесткой рукой. И не успел он закрыть от этого стыда лицо руками да всхлипнуть первый раз, как Таня уже вперед его и ахнуть успела по-бабьи, и броситься к нему заполошно с объятиями, и сгрести рыжую голову к себе в руки.
– Гришук, да ты что! Чего ты такое себе напридумывал, малыш! Как это он за тобой не вернется? Такого совсем, совсем быть не может, ты что… – торопливо сыпала она словами ему в ухо, изо всех сил прижимая рыжую голову к груди и успевая еще и покачивать ее слегка. В общем, делала все то же, что умеют так славно делать многие женщины на белом свете, укачивая-убалтывая детские тревоги и страхи, растворяя их в своей доброте простодушной. Миллионы женщин. Ну, может, и не миллионы, конечно. Статистики такой нет, к сожалению. Может, чуть поменьше, чем миллионы…
– Просто вы ничего не знаете, теть Тань… – немного успокоившись, потянул из ее рук голову мальчишка. – Если б вы только правду знали…
– Какую такую правду, Гришук? Что ты? Я только одну правду и знаю – папа очень любит тебя! Очень сильно любит!
– А он что, сам вам об этом сказал?
– Ну да, сам, конечно… – на честном голубом глазу, и не моргнув даже, соврала Таня. Взяла на себя ответственность за отцовскую любовь Павла Беляева. А что, что еще ей оставалось делать?
– Теть Тань, а вдруг он свою жену… то есть эту… ну, которая мама моя бывшая… еще сильнее любит? А вдруг он прилетит из командировки и к ней вернется? Знаете, какая она красивая? Прямо как артистка из американского кино!
– Погоди, погоди, Гриш… Чего-то я не все понимаю. Как это – бывшая мама?
– Да как-как! Очень просто! Они сначала вместе договорились меня из детского дома себе забрать, а потом мама передумала. Надоел я ей. И хотела меня обратно отдать. А папа не дал.
– И правильно, что не дал. И молодец…
– Ага… А только она обиделась на него и совсем ушла. И он стал такой… как ежик скрученный. Иногда смотрит на меня, как слепой, и мне страшно. Это он переживает, наверное, сильно так, что она ушла. Да, теть Тань? Переживает? Ведь жена все-таки…
– Так. Понятно. Так. Так… – тупо перебирала языком пустые слова Таня, не зная, что еще и сказать умного. Вдруг приоткрылась ей огромная трагедия этих людей, всех – и Павла Беляева, и жены его, и рыжего этого мальчишки-детдомовца… И совсем некстати вдруг всплыло, завертелось в голове еще со школьных литературных уроков вынесенное и уже всяко потом вдоль и поперек избитое, так никем до конца для себя и не востребованное умное выражение про слезу ребенка, которой ничего-таки в жизни не стоит… Но ведь и в самом деле – не стоит! Это ж ясно и понятно, что не стоит… Только как это ребенку-то объяснишь, который вылупился сейчас на нее истошной, слезами промытой горькой синевою из глаз? Или не надо ничего ему объяснять такого? Вырастет – сам решит проблему этой своей детской слезы? Кто его знает…
– Она папе говорила все время, что у меня наследственность плохая. Ну, Жанна эта, жена его… А она и не плохая у меня вовсе, теть Тань! С чего она это взяла-то? – звенел у нее над ухом отчаянный детский голосок. – Вовка Артемьев, из старших, сам в мою личную папочку заглядывал, когда директор Ольга Ивановна ее на столе оставила, забыла в сейф убрать… Там про маму мою все написано! Она врачом была, вот! Ой, ну не врачом, а этим, как его… Ферд… Федь…
– Фельдшером… – автоматически подсказала Таня.
– Ну да! Вот им самым! Она умерла, когда мне годик всего был. А я ее помню. Надо мной все ребята смеялись, когда я им про нее рассказывал… А я все равно помню! Она такая была… Ну вот как вы… На вас сильно похожая!
– Ну что ты, Гришук… – сдавленно прохрипела Таня, изо всех сил пытаясь сдержать слезы жалости. Еще того не хватало, чтобы и она в слезах сейчас поплыла…