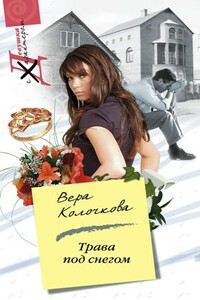– Как грустно вы это сейчас сказали… – подняла на Павла глаза Таня. – Так, будто жалеете об этом. Ну, что соблюдали…
– Да. Жалею. Жалею, конечно. А ты перестань мне выкать, попросил же! Терпеть не могу, когда выкают! Ты меня еще товарищем назови! Развыкалась тут!
– Хорошо, извините… Ой! Извини… А почему? Почему жалеешь-то?
– Да потому… Я ж видел, что он в последнее время сам не свой. Загнанный какой-то, будто опасается чего. Без охраны и шагу не ступал. И спросить нельзя было. А что делать, раз табу? Раз сам не говорит, значит, дело не в личном да душевном…
– А о личном да душевном, значит, можно было говорить?
– Ну, это сколько угодно! Мы, бывало, так с ним иногда за жизнь пьянствовали, что философский трактат можно было наутро писать!
– Ну, понятно…
– Чего тебе понятно? Чего вообще тебе может быть понятно? Он, знаешь, такой был, Костька… Его все боялись кругом, а внутри он слабым был, как нежный цветок орхидея… Весь из противоречий. Да ладно, чего я тебе рассказываю…
– А Отю… То есть Матвея, конечно, он любил?
– Любил. Он всегда сына хотел. Даже жену поменял, чтоб сына ему родила. А потом, знаешь, будто галочку на этом деле поставил…
– В смысле?
– Ну, как бы тебе объяснить… Вроде как дело сделано, и слава богу. Он и ребенка-то не видел почти. Все они с Анькой нянек ему дорогущих нанимали. Одна только по-английски с ним лопочет, другая дипломами да званиями хвастается… На хрена такому маленькому этот английский да звания? Ему ж родители нужны, живые, теплые… Непонятно даже, как он и в машине той вместе с ними очутился. Глупое какое-то стечение обстоятельств… Слушай, а ты не помнишь, из какой двери Мотька вывалился? Из передней или из задней?
– Из задней, по-моему…
– Значит, это его Анька вытолкнула. А может, они все втроем на заднем сиденье были – и Костик, и Анька, и Мотя… Может, их везли куда…
– Кто вез?
– Откуда я знаю? Теперь уж, я думаю, об этом и не узнает никто…
Павел вздохнул и замолчал, грустно уставившись в лобовое стекло. И Таня молчала. А потом они одинаково вздрогнули от нетерпеливого автомобильного гудка, отчаянно извергнутого из старенькой, пристроившейся за машиной Павла «шестерки». Павел встрепенулся, быстро проехал вперед – слава богу, пробка начала потихоньку поступательное движение. Вот и долгожданная свобода, вот и конец грустному разговору…
С покупкой билета управились быстро. Вернее, быстро управился Павел, Таня осталась ждать его в машине. Взяв в руки продолговатую голубую книжицу, она посмотрела на него удивленно:
– Это что, билет такой?
– Ну да…
– И что, по нему меня в самолет пустят?
– Пустят, пустят, не бойся. Когда спросят разрешение на выезд из страны ребенка, покажешь вот это, там все есть. Поняла?
– Да, поняла… – неуверенно протянула Таня, беря из его рук тоненькую пластиковую папочку.
– В аэропорт сама доберешься, такси закажешь. Мне тебя отвозить некогда. Да, и сдачу возьми!
– Ой, тут много…
– Почему много? Десять тысяч рублей…
– А… Когда лететь-то?
– Вот, смотри, тут все написано. Видишь? – ткнул он ей нетерпеливо пальцем в нужную строчку. Вот дата, вот время…
– Ой, так это что же… Через три дня уже?!
– Ну да… Еще спасибо скажи, что на этот рейс успели! Сейчас сезон не туристический, с билетами более или менее свободно. А если б не успели, через Москву пришлось лететь. У нас тут, сама понимаешь, не столицы, самолеты в Париж не каждый день шастают. Так что давай, подсуетись, заканчивай все свои дела – и вперед!
– Господи, уже через три дня…
– А ты как хотела? Через три года, что ли?
– Нет, почему… Просто неожиданно все…
– Ладно, не причитай. Тебя где лучше высадить? Тороплюсь я…
– Да я на автобусе, что ты! Спасибо тебе за все, Павел. Я б одна со всем этим точно не справилась. Спасибо…
– Ну что ж, прощай, Таня Селиверстова. И не трусь там особо, в Европах-то. Смелее будь.
И с Ленкой да Адой себя посмелее веди, не отдавай им себя за просто так. А то они, знаешь, такие…
– Какие?
– Да что я тебе буду рассказывать, сама все узнаешь…