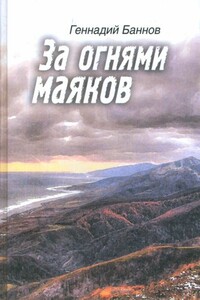Он у нас ужинал. Ночевал. Оставался на выходные. Мы даже собирались забрать его к себе на все каникулы.
Однажды вечером, ложась в постель, я призналась себе, что люблю Октава. Чувство любви было сладостным, умиротворяющим, я впервые за долгое время заснула быстро и сладко. Хотя семь лет подряд насильно загоняла себя в забытье, будто долбила туннель в гранитной скале. Чтоб погрузиться в сон, я должна была заткнуть кляпом рот, из которого рвались жалобы, заколотить в гроб душу блудной матери и насыпать над ним могильный холм. Ночь подступала ко мне, будто смерть, с той только разницей, что пытка повторялась вновь и вновь.
А на следующее утро Гуго мне объявил, что больше не дружит с Октавом.
Поначалу я не приняла его слов всерьез.
— Что случилось? Неужели поссорились?
— Нет.
— А что тогда?
— Я не хочу его больше видеть. Никогда. Он больше к нам не придет.
— Не слишком-то это вежливо с твоей стороны, — сказала я сыну.
В этот миг он казался мне палачом.
Почему он отнял у меня Октава? Зачем выгнал его? Как распознал мою привязанность? Я не обнаруживала ее. Я была не из тех мам, что донимают детей рассказами об успехах товарищей. Ты должен учиться, как вот этот! Быть воспитанным, как вон тот! Посмотри, как тот и этот помогают мамочкам! Я оставалась сдержанной, ничего никогда не выставляла напоказ.
— Это он невежливый, — возразил сын.
Ложь. Бесстыдная ложь.
Я никогда не видела, чтобы Гуго сердился, но на этот раз он был вне себя.
— Что ты такое говоришь?
Забыв об осторожности, я посмотрела ему в глаза. Стрела полетела и вонзилась. Мой взгляд его напугал. Я видела, как задрожали у него губы. Ресницы трепетали, словно прося пощады. Он бормотал что-то невразумительное, говорил о каких-то существах, о тайной планете, в общем, обычные детские выдумки. Я ничего не поняла, да и не хотела понимать. Я сама не ждала, что во мне скопилось столько отвращения. Не могла отвести взгляд. Не могла опустить глаза. Мощный поток обжигающей лавы лился неудержимо. Зеркала моей души разбились вдребезги.
Как я могла вспомнить этот ужас? Как могла пережить его вновь?
Гуго, униженный, уничтоженный, в конце концов виновато опустил голову. Медленно, словно от полученного удара у него болело все тело, побрел к себе в комнату. Как только за ним закрылась дверь, я осознала, что натворила, и мной овладел нестерпимый стыд. Не меньший стыд мне предстояло испытать много лет спустя.
Орхидея Венсана с презрительной гримаской смотрела, как я плачу над луком. Я позабыла нарезать его заранее. Обычно я начинаю с лука. Надеваю очки для плавания и ныряю в облако слезоточивого газа. Но сегодня Бен с утра преподал мне урок, и я отвлеклась. А надеть очки при посетителях не отважилась. Напрасно я клала луковицы в холодную воду, слезы падали градом. Я казалась себе собакой, которую душат. Черные, умоляющие собачьи глаза выкатывались из орбит. Уходя, Венсан поцеловал мне руку. Я почувствовала его влажные губы чуть выше своих пальцев. Не уверена, что мне понравилось. Губы тонкие, бледные, в уголках пузырьки слюны… Скорее, я испытала легкое отвращение. И все-таки, должна сознаться, внутри что-то сжалось, петля лассо затянулась. Шелуха, золотистая, легкая, взлетала и падала, когда я строгала лук на доске. Какие великолепные белые луковицы привозил мне Али Шлиман! Слаще сахара, ярче лампочки: они не отражали свет — излучали. В цирке я резала лук без очков и без слез. «Из-за меня вы не будете плакать, — обещал поставщик овощей, протягивая мне связку светящихся шаров. — Это нежный лук. На вкус как обычный, но глаз не выест». — «Как хорошо», — отвечала я. Опустив глаза, господин Шлиман скромно поджимал губы, они у него не розовые, как у Венсана, а коричневые, почти фиолетовые, будто инжир. И его внезапная грустная улыбка тоже напоминала надрез на инжире. Я всегда глядела на его рот, когда он со мной разговаривал, потому что не могла посмотреть в глаза, до того они были печальны. Я смотрела на его рот и выучила наизусть каждую морщинку, будто собиралась… Не собиралась. Зачем мне касаться его губ? Зачем думать о человеке, из-за которого никогда не заплачешь?