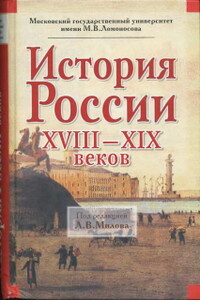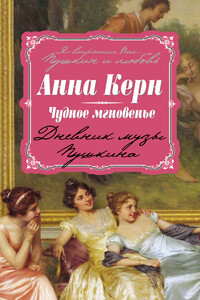В начале нового царствования, в разгар нововведений Александра I, когда распространялось просвещение, открывались университеты и делилась Россия на учебные округа, московское купечество изъявило ревность к наукам и на свои уже средства возобновило Коммерческое училище, которое получило те же права, что и петербургское. К тому времени Прокофий Демидов умер, не довелось ему порадоваться.
Купцы были настроены серьезно, приискали каменный дом на Стоженке (Остоженке). Прежний владелец дома, сенатор и генерал-аншеф Петр Дмитриевич Еропкин, усмиритель Чумного бунта, важный московский барин, умер в 1805 году. Владение вплотную примыкало к аристократическим кварталам Пречистенки, Большой Молчановки, Арбата. Рядом была Москва-река, перекаты Крымского брода. На улицах тихо, не Китай-город с его торговыми рядами.
Вместительный дом заново выкрасили, в залы и комнаты внесли шкафы, столы, скамьи, были куплены книги, карты, счеты, чернила и бумага. Из университетских воспитанников подобрали учителей и начали занятия. Нашлись и ученики, усердные мещанские дети, чья мечта — попасть в доверенные приказчики к первостатейному купцу. Торговое просвещение укоренилось, пошло в рост, и замоскворецкие Тит Титычи, помимо церквей и бедных, стали одаривать Коммерческое училище.
Программа коммерческих наук была обширна, требовала прилежания, но в торговом деле, как известно, главное — добрая нравственность. Во всех классах обязательны были уроки закона божьего, за уклонение от них строго взыскивали. Купцы-попечители желали, чтобы приказчик был богобоязнен, почтителен, чтобы, натурально, смышлен и ловок. Когда брали на службу, наводили справки у училищного начальства. Не последнее слово принадлежало законоучителю, священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву.
В Московском коммерческом училище отец Михаил начал учительствовать в 1817 году. Место видное, спокойное, но молодой священник (ему недавно минуло тридцать лет) был его достоин. Достиг он его заслугами, обширной ученостью, непоказным благочестием, ровным характером. Но была и фортуна, везение, без чего не вышел бы он из сельской глуши, остался там, как осталась вся родня его, священники, дьяконы, дьячки. Помогал же фортуне граф Иван Андреевич Остерман, второй вельможный чудак нашего повествования.
Отцом графа был знаменитый Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) Остерман, выученик Петра. Сначала царь употреблял честолюбивого вестфальца для иностранной переписки, затем доверил вести переговоры, заключить Ништадский мир. При Анне Иоанновне Остерман стал кабинет-министром, управлял иностранными делами. С Бироном дружбы не водил, но ладил. В сомнительных случаях сказывался больным. Враги считали его за человека, действующего «дьявольскими каналами» и не изъясняющего ничего прямо, а все обиняками, «темными сторонами». При иноземных дворах он имел славу великого политика, для которого не было тайн в хитросплетениях европейской дипломатии, дельца умного, проницательного, который бывал, по обстоятельствам, то осторожным, то отважным. Казалось, что после смерти Петра только Остерману обязана Россия участием в европейском концерте, что без опыта и искусства петровского сподвижника вновь исчезла бы она из семьи народов просвещенных, обратившись к прежнему варварству. При воцарении Елизаветы Петровны Остерман пал, был обвинен в измене присяге, в преследовании русских и в раздаче чужестранцам мест государственных. Голова его лежала на плахе, но казнь заменили ссылкой в Березов. Там он и умер.
Сына его отходчивая Елизавета со временем простила, отправила в Париж, состоять при посольстве. Имя отца служило Ивану Андреевичу добрую службу. Екатерина II сделала его вице-канцлером, каковой пост занимал и первый граф Остерман, поручала неважные переговоры с иностранными министрами, составление нот, меморий, прочую рутинную работу. Однажды в сердцах назвала его дураком — ни воли, ни способностей отцовских Иван Андреевич не имел, в серьезных делах робел, путался. Зато был трудолюбив, надежен, не заносился, как Панин или Безбородко, не строил планов, в исполнении затруднительных, собственное мнение высказывал, лишь будучи спрошен. В павловское царствование граф Иван Андреевич был пожалован в канцлеры — высший гражданский чин, равный фельдмаршальскому, назначен президентом Коллегии иностранных дел, а вскоре затем, отягченный старостью, уволен в отставку. С честью оставив служебное поприще, он поселился в Москве и более десяти лет удивлял москвичей своею одеждою по отошедшей версальской моде, старинным экипажем, гайдуками. Истинный был вельможа XVIII века.