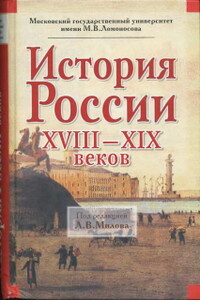Общее содержание своих воззрений Соловьев передал, без сомнения, верно, и нет, казалось бы, надобности подыскивать иное определение, взамен соловьевского. Разве что, для ясности, стоит перевести: русофилизм — русофильство, национальная ограниченность, смешная, жалкая, страшная претензия считать свой народ выше остальных только потому, что ты — русский, родился в России и, как ты уверен, горячо ее любишь. Хорош ли такой перевод, уместен ли он, коль скоро речь идет о давнем читателе книг «о странствиях вообще», о юноше с несомненными задатками ученого, для которого важна истина? Едва ли…
Пусть остается слово, найденное Соловьевым, «русофилизм», но следует подчеркнуть его неточность или, по крайней мере, неоднозначность.
Соловьевский русофилизм зародился, понятное дело, не в Урюпине. Французомания Голицыных обострила давний детский патриотизм, истоки которого — в рассказах старой няни, в поучительных прогулках с отцом по Москве, в чистых переживаниях над страницами Карамзина. Право, если бы русофилизм в том и состоял, то как было отличить его от бесхитростной любви к России и к русскому народу? Жизнь в княжеском доме выявила, однако, и позднейшие гимназические настроения, что прививал русским юношам Уваров. Пренебрежение русских князей ко всему русскому выглядело ужасно, оно, казалось, вполне объясняло, отчего в гимназии учителя часто говорили о счастии быть подданным русского императора, об истинно русских началах, которым надлежало следовать. Говорили, не подозревая, быть может, о существовании семейств, подобных голицынскому, семейств, лишенных отечественных корней.
Французомания? В душе Сергея переплелись и ранние впечатления от стен Рождественского монастыря, и описания парада русских войск в Париже, и жалостное сочувствие к современной Франции, где, как учили в гимназии, утеряно верное понятие о монархическом правлении. Бедные французы! Россия — великая империя. Это твердо.
Дальше, правда, возникало смущение: далеко не все русское заслуживало любви. Русское барство… Здесь он встретил полное равнодушие к учению, невежество. Глава семьи Голицыных (коренной русский род) говорил: «Меня решительно ничему не учили; если я говорю свободно по-французски, то этот навык я приобрел сам после, в детстве же меня не учили даже и по-французски».
Русское крестьянство… Сергей не знал деревни; две, в гимназические годы, поездки в Ярославль немного добавили к книжным представлениям о крестьянах; гимназия обходила деревенскую жизнь молчанием, кроме хрестоматийного: крестьяне пашут, сеют, жнут и водят хороводы. В Урюпине произошло следующее: «Однажды вечером, когда я сидел в своей комнате за книгами, гувернер, швейцарец Фарон, уложивши детей, вышел погулять, но скоро возвратился и пришел ко мне с следующим рассказом: «Только что я вышел в поле, как подходит ко мне мужик и предлагает свою дочь; я сначала остолбенел, потом стал упрекать его за такую страшную безнравственность: мужик отвечал: «Эх, батюшка! Что ж нам делать-то? Ведь князь уж почал!» — и тут рассказал мне обычай, что как скоро девушка в деревне достигает 15-ти лет, ее ведут к князю на растление, после чего она получает 50 рублей ассигнациями денег».
История, услышанная от швейцарского гражданина, оскорбляла, унижала нравственное чувство, ее хотелось не знать, забыть, приписать частной испорченности, возможной и в Швейцарии, но стыдно обманывать самого себя — эта история случилась в России, ее породили общественное устройство и законы российские. Недостойный крестьянин, но достойно ли великой империи столь странное сочетание слов: крепостное право. Было над чем задуматься…
Осенью 1838 года, вернувшись в город, Сергей Соловьев надел темно-зеленый сюртук с синим воротником — форму студента Московского университета.