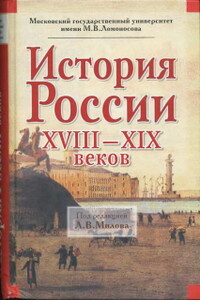Взрослые, как и дети, читали романы Вальтера Скотта, который, по убеждению Белинского, «докончил соединение искусства с жизнью, взяв в посредники историю». С появления в 1816–1817 годах первых восьми томов «Истории государства Российского» не ослабевал интерес к творению знаменитого писателя, ставшего историографом. Карамзин писал просто, изящно, его «История» была увлекательнейшим чтением, а по обилию фактов, их умелой систематизации не имела себе равных. Пушкин вспоминал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом». В начале тридцатых годов труд Карамзина сохранял значение литературной новости (двенадцатый том был издан в 1829 году, после смерти историографа), его читали, обсуждали, критиковали. Обозревая лучшие произведения русской словесности за 1829 год, Иван Киреевский выделял из общего ряда последний том «Истории государства Российского», который «превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога». Умный литератор скромно добавил: «Не по силам нам оценить его достоинство».
Карамзин был доступен и понятен всем. Дети, которые, как всегда, тянулись за взрослыми, играли в события, им описанные. Неподалеку от Остоженки, на Старой Конюшенной, главной улице московской аристократии, жили Аксаковы, дворяне радушные, хлебосольные, гостеприимные. Первенец семьи, юный Костя Аксаков (он был тремя годами старше Сережи Соловьева) зачитывался «Историей» Карамзина, которая воспламеняла в нем патриотическое чувство. Одиночества Костя не терпел и, прочитав главу, тотчас же собирал братьев и сестер, пересказывал им давние события, заставлял слушать. Младший брат Константина, Иван, вспоминал: «В особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который, сражаясь с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбросившись из башни, погиб».
Вячко — Вячеслав Борисович, из младших полоцких князей — был последним русским князем в Прибалтике, храбрым и неудачливым воином, чья жизнь прошла в неустанных схватках с тевтонскими рыцарями. Крестоносцы люто его ненавидели, а немецкая «Хроника Ливонии», составленная сразу после его гибели в 1224 году, почтительно именовала «королем из Кукейноса». Иван Аксаков спутал Кукейнос (Куксгавен) с Юрьевом, подробности же последнего боя князя, которых нет у Карамзина, дети скорее всего домыслили сами. Но любопытно, что из всех героев русской истории Костя Аксаков выбрал полузабытого князя Вячко, скудные сведения о котором давали простор детскому воображению и чьи подвиги удовлетворяли невесть откуда взявшуюся, но стойкую неприязнь к «вражьей силе», к вероломным и жестоким иноземцам.
В честь Вячко Костя учредил даже ежегодный семейный праздник. В этот день, 30 ноября, он, его братья и знакомые мальчики из хороших семейств — дружина воинов — надевали железные латы, шлемы, вооружались деревянными мечами и копьями, девочки наряжались в сарафаны — и все вместе водили хоровод и пели песню, для этого случая сочиненную учредителем праздника:
Запоемте, братцы, песню славную,
Песню славную, старинную,
Как бывало храбрый Вячко наш…
Затем следовало угощение («непременно русское», уточнял Иван Аксаков), дети пили мед, ели пряники, орехи, изюм. Все было настоящее: и праздник, и угощение, и латы, сделанные по образцам, взятым из гардероба Малого театра, и мечи, над которыми трудился домашний крепостной столяр Андрей. Были еще старинные палаши из золингенской стали и метательное копье, подарок археолога Калайдовича. Карамзинские страницы облекались во плоть, подлинный мир не упразднял книжный, а был его естественным продолжением. Действительность играла такими же яркими красками, что и древние предания. Да и могло ли быть иначе? У Константина Аксакова вопрос вызвал бы недоумение: как иначе?
Безоблачно счастливым было московское детство сверстника Сергея, его будущего друга, затем соперника и яростного критика, московское — ибо были еще ранние годы, проведенные в оренбургском имении, среди первозданной природы, оставившие радостные воспоминания о рыбной ловле, о бабочках, за которыми так весело бегать, об отцовской охоте…