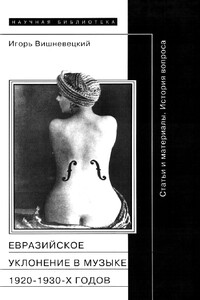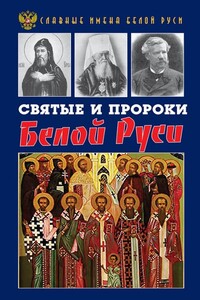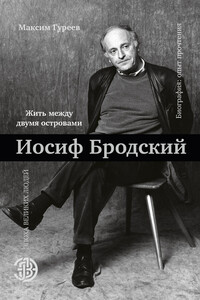Мать всячески поощряла его первые импровизации или, как он сам называл их, «песенки» на клавишах. Всего сохранилось 58 «песенок» для фортепиано, которые Прокофьев продолжал сочинять вплоть до 1906 года и с привитой ему с раннего детства систематичностью разбил на пять серий: по дюжине в каждой. Почти все серии уцелели. В неполном виде — без двух «песенок» — до нас дошла только пятая серия.
По воспоминаниям самого Прокофьева, «когда мать играла свои экзерсисы, я просил отвести в моё пользование две верхних октавы и выстукивал на них свои детские эксперименты. Довольно варварский ансамбль, но расчёт матери был верен, и вскоре я стал подсаживаться к роялю самостоятельно, пытаясь что-нибудь подобрать». Склонность Прокофьева к шокирующим гармониям и его эксперименты с одновременным звучанием нескольких оркестров восходят не к пробовавшим это до него Моцарту и Берлиозу, а именно к младенческим «выстукиваниям» на мамином инструменте.
Приглашённый в 1902 году из Киева для занятий с вундеркиндом молодой композитор Рейнгольд Глиэр припоминал, что ближайшим путём к Солнцевке-Сонцовке в ту пору была дорога от «маленькой железнодорожной станции Гришино [ныне — Красноармейское. — И. В.], неподалёку от уездного города Бахмута. Меня ждала коляска, запряжённая парой лошадей, присланная из Сонцовки. Дорога лежала среди тучных чернозёмных полей и лугов, усеянных цветами. Весь двадцатипятикилометровый путь до Сонцовки я не уставал любоваться прекрасными картинами богатой красками украинской природы».
Ныне дорога пролегает из Донецка и занимает около полутора часов на автобусе, но пейзаж остаётся тем же — поля, теперь распаханные и засеянные подсолнечником и злаками, поражающие в солнечный летний день контрастом золотого и чёрного, перелески, редкие водоёмы, ярко-синее небо.
Жили Прокофьевы в отданном им на попечение имении практически как в своём собственном. Глиэр вспоминал «небольшой помещичий дом, окружённый весёлой зеленью сада, дворовые постройки, амбары», «клумбы с цветами, аккуратно расчищенные дорожки», постоянную занятость сурового и замкнутого Сергея Алексеевича, поездки к соседям в имения всегда «за двадцать, тридцать километров от Сонцовки», отличных ездовых лошадей, «дальние прогулки верхом», которыми маленький Серёжа «очень увлекался». В рассказах коренных жителей села мне лично довелось слышать и упоминания о скульптурах в «панском саду» перед усадебным домом. Но ни сад, ни сам дом, ни большая часть промышленных помещений в Солнцевке не сохранились. Уцелели только школа — ныне Музей Сергея Прокофьева, фундаменты располагавшейся к востоку от усадебного дома «панской экономии», на месте которой теперь стоят новые хозяйственные строения, да расположенная на юг от дома, построенная в 1840 году деревенская церковь Святых Петра и Павла, в которой крестили композитора. Колокола, висящие ныне на колокольне, были отлиты в 1990-е в Донецке: на каждом из них изображён Прокофьев и начертаны цитаты из его музыки.
Возле церкви сохранилось и семейное погребение, где покоится прах бабушки Анны Васильевны Житковой и двух умерших в младенчестве старших сестёр композитора.
Когда в 1930—1940-е в музыке, вдохновлённой «Евгением Онегиным» Пушкина и «Войной и миром» Толстого, Прокофьев обратился к воссозданию той специфической атмосферы, в которой образованный класс XIX века жил в своих поместьях, в близости к земле и природе, то он попросту черпал из впечатлений своего детства. Никто из отечественных композиторов начала XX века, даже потомственный шляхтич Стравинский, не мог похвастать столь глубоким знанием поместного уклада, как не принадлежавший к наследному земельному дворянству Прокофьев.
Донетчина всегда резко отличалась от Центральной и Западной Украины. В древности через эту территорию прошли племена таинственных киммерийцев, ирано-язычных скифов и сарматов, беспощадных гуннов, за которыми последовали германоязычные готы, а потом тюрки-болгары, авары, хазары, печенеги. Южная, приморская часть земель находилась в античные времена под властью Боспорского царства. В раннем Средневековье степи были густо заселены, и поселенцы-христиане существовали здесь бок о бок с мусульманами и язычниками. Действие «Слова о полку Игореве» разворачивается именно в степях вокруг Северского Донца, на подходах к лежащему к югу от них «Синему Дону», испить шеломами воды из которого мечтает русское войско. Однако в 1391 и 1395 годах, во время междоусобных войн внутри Золотой Орды, пришедший из Азии Тамерлан разграбил степи и изничтожил их осёдлое население. После чего вся земля пришла в упадок, превратилась в разгульное Дикое поле — с реками и полезными ископаемыми и с редкими поселениями лихих сорвиголов. Донетчина оставалась не слишком густо заселённой вплоть до конца XVIII века, когда, с началом разработки угля, превратилась в самую бурно развивающуюся часть Екатеринославской губернии, в которой городское население многократно превосходило сельское.