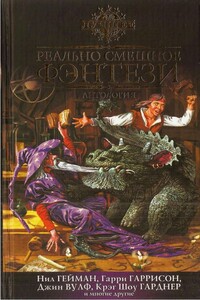Этот странный маленький инцидент произошел в моей квартире, где Бартин проводил вечер. Мы вместе пообедали в клубе, приехали домой в кебе, — словом, все шло как обычно, самым прозаическим образом. Я не мог понять, чего ради Бартину понадобилось нарушить естественный и привычный порядок вещей и чем вызвано его раздражение, если только это не было капризом. Чем больше я думал об этом, рассеянно слушая его остроумную болтовню, тем сильнее становилось мое любопытство. Конечно, я без труда убедил себя, что всего лишь беспокоюсь о друге. Любопытство часто скрывается под видом дружеской заботы. Наконец я бесцеремонно прервал монолог Бартина на середине одной из самых удачных фраз.
— Джон Бартин, — сказал я, — постарайтесь простить меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, вы не имеете права выходить из себя при безобидном вопросе «Который час?». Я не могу одобрить ваше таинственное нежелание поглядеть в лицо собственным часам. И я решительно против того, чтобы вы — без каких-либо объяснений — срывали на мне досаду, причины которой мне неизвестны.
Бартин ничего не ответил на эту забавную речь. Он сидел, пристально глядя на огонь. Опасаясь, что обидел его, я хотел уже принести извинения и попросить его больше не думать об этом, но тут он спокойно посмотрел мне в глаза и заговорил:
— Мой дорогой друг, шутливый тон ваших расспросов нисколько не смягчает их отвратительной наглости. К счастью, я уже решил рассказать вам все, что вы желаете знать. И не изменю решения, хотя такое дерзкое любопытство не заслуживает откровенности с моей стороны. Но будьте добры внимательно выслушать меня — и вы узнаете все.
— Эти часы, — продолжил он, — появились в нашей семье за три поколения до меня. Их первым владельцем, по заказу которого они изготовлены, был мой прадед — Брамвелл Олкотт Бартин, богатый плантатор из Виргинии. Как истинный тори, он проводил целые ночи без сна, изобретая все новые кары для мистера Вашингтона и новые способы помочь доброму королю Георгу. К несчастью, этот достойный джентльмен вмешался в дела государственной важности, и его противники сочли, что он нарушил закон. Я не буду вдаваться в подробности этой истории. Но одним из ее незначительных последствий стал арест моего почтенного предка, произведенный ночью в его собственном доме мятежными сторонниками Вашингтона. Моему прадеду разрешили проститься с плачущими домочадцами, а затем увели в темноту, которая поглотила его навсегда. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. После войны самые тщательные розыски и предложение большой награды не помогли обнаружить ни одного из его похитителей или выявить хоть какие-то факты, связанные с его исчезновением. Он просто исчез, и все.
Не столько в словах Бартина, сколько в его манере было что-то, — я и сам толком не понимал, что именно, — побудившее меня спросить:
— А что вы сами думаете об этом?
— Я думаю, — вспыхнув, проговорил Бартин и стукнул по столу кулаком, словно он в трактире играл в кости с мошенниками, — я думаю, что это подлое, трусливое убийство, совершенное проклятым изменником Вашингтоном и его мятежным сбродом!
Минуту или две мы оба молчали: я ждал, пока Бартин возьмет себя в руки. Потом я сказал:
— И это действительно всё?
— Нет, — было еще кое-что. Через несколько недель после ареста моего прадеда нашлись его часы, оставленные возле парадной двери. Они были завернуты в почтовую бумагу, на которой значилось имя Руперта Бартина — его единственного сына, моего деда. Я ношу эти часы.
Бартин сделал паузу. Его черные глаза, обычно живые и беспокойные, неподвижно уставились на каминную решетку, и в каждом зрачке отразился красный отсвет пылающих углей. Он словно забыл о моем присутствии. Внезапный шелест ветвей за окном и раздавшийся почти в тот же миг стук дождя о стекло заставили его очнуться. Буря усилилась, налетел резкий порыв ветра, и через несколько мгновений мы отчетливо услышали, как на мостовой плещется вода. Не знаю, почему это соединилось в моем сознании с рассказом Бартина; мне казалось, что эти звуки не случайны, что они имеют какое-то особое значение, которого я теперь не могу объяснить. По крайней мере, они придавали происходящему оттенок серьезности, почти торжественности.