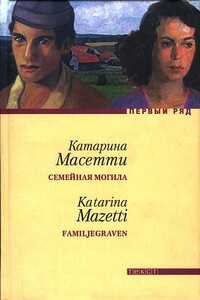И снова пришла зима. В Крокмюр и Наттмюрберг. Во весь молчаливый Хохай. Белая снежная зима, которая здесь, на севере, была не временем года, а целым миром, целым континентом.
Арон с Инной договорились, что не будут встречаться зимой. Это стало бы пыткой для них обоих. Но они будут писать друг другу письма и прятать их в пеньке у большой дороги — на повороте на тропу, ведущую к Наттмюрбергу.
Следы на снегу они договорились заметать.
У Арона этой зимой было тяжело на сердце. Он совсем запутался в своих мыслях. Много раз он порывался довериться Хельге и рассказать ей все об Инне. Может, мысли прояснятся, если отпустить их в воздух вместо того, чтобы позволять им трепыхаться, как рыбам в банке. Им с Инной стоило бы пожениться — так он думал. Жить как муж с женой. Открыто и честно. Нехорошо встречаться тайком без благословения священника.
Да даже будь у них такое благословение, все равно брак — это нехорошо, потому что Арон не считал, что у него есть право жениться. Он убедил себя в том, что не может жить, как все, поверил, что обречен на одиночество, на жизнь вдали от других людей. Он сам своим безумным поступком лишил себя права на семью, на продолжение рода.
А теперь появилась Инна. Близость с ней потрясла его. Ее лицо рядом с его, то, как в нем отражалось пламя, сжигавшее его самого. Ее лицо странным образом волновало его, влекло, манило. Для Арона наивысшим даром было видеть, как оно открывается навстречу удовольствию, как оно, до этого строгое и закрытое, вдруг раскрывается, точно цветок навстречу солнцу. В этом лице он читал что-то, что было для него одновременно родным и знакомым. Его поражало то, что после всех этих лет он все еще способен испытывать такие сильные чувства. Такую страсть и такое страдание. И хотя все, что они делали, было грехом, Арон чувствовал, что иначе быть не могло. И это пугало его, поскольку противоречило его обещаниям самому себе. Арон совершил грех, смертный грех, нарушил одну из заповедей Библии — он не имел права на любовь. И теперь он совершает грех по отношению к Инне. Как бы осторожен он ни был, Инна все равно могла забеременеть, и что им тогда делать? Ответа на это у Арона не было.
Хельге он не открылся по двум причинам. Во-первых, ему не хотелось рассказывать ей о своих отношениях с Инной. Наверно, потому, что не считал себя вправе иметь отношения с женщиной. Держать это в тайне было все равно что притворяться, будто этих отношений не существует, закрывать на них глаза.
Вторая причина заключалась в том, что он и так знал, что скажет на это Хельга. В голове у него уже звучал ее резкий крик:
— Ну и женись тогда на девушке! Чего тут раздумывать!
Ему представлялось, как Хельга заливисто смеется над его муками.
Этого Арону слышать не хотелось, потому что в его жизни и без того все было непросто. Жизнь оказалась спутавшейся бечевой со множеством узлов, которая запутывалась все больше и больше. И узлы эти невозможно было распутать, только разрубить вместе со всем прошлым на другом конце веревки. Имелась еще одна, третья, причина, почему он ничего не рассказал Хельге. Его прошлое было неразрывно связано с настоящим, с тем, что он переживал сейчас, и, рассказав об одном, невозможно умолчать о другом.
Инна тоже не думала о браке. Она принадлежала Наттмюрбергу, а поскольку разные миры в ее жизни не должны пересекаться, и речи не могло быть о том, чтобы Арон поселился здесь. Наттмюрберг был вотчиной Кновеля. Они с ним неразрывны. Наверно, после смерти Кновеля можно было бы подумать о свадьбе, но так далеко ее мысли не заходили. И потом, оставалась еще скотина, которую Инна считала своей. Ей требовался присмотр. Были сыры и масло, шерсть и кожа, и была Хильма, ее душа, которая продолжала жить в Наттмюрберге. Это из-за Хильмы мысль покинуть Наттмюрберг не приходила Инне в голову. Оставшись в доме одна с Кновелем, она так сильно привязалась к покойной матери, что сквозь смерть проросла пуповина, неразрывно их связывавшая. Без хлопот по дому и скотины она порвалась бы, и обе они — и Инна, и Хильма — превратились бы в тени, в бесформенных, бесплотных призраков.