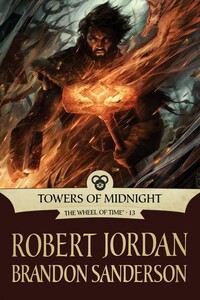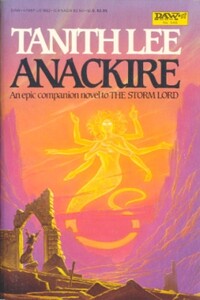– Илэйн знает, что… – начал голос Авиенды, потом, после паузы, он стал сбивчивым, торопливым. – Она знает, что красива, знает, какую власть над мужчинами дает красота. Иногда она выставляет напоказ чуть ли не всю грудь, и она улыбается, когда заставляет мужчин делать то, что ей хочется.
Илэйн задохнулась от возмущения. Авиенда так думает о ней? Да она выглядит сущей вертихвосткой! Авиенда нахмурилась в ответ и открыла было рот, но Тамела надавила ей на плечи и заговорила сама.
– Ты думаешь, мужчины не видят твоего лица? – В голосе Хранительницы Мудрости слышались нотки раздражения; властное – вот лучшее слово, каким можно было охарактеризовать ее лицо. – Разве они не посматривают на твою грудь в палатке-парильне? Не восхищаются твоими бедрами? Ты красива, и тебе это известно. Отрицать это – все равно что отрекаться от самой себя! Тебе нравятся взгляды мужчин, и ты улыбаешься им. Неужели ты никогда не улыбнешься мужчине, чтобы придать своим словам больший вес? Не прикоснешься к его руке, чтобы отвлечь от слабости своих доводов? Так было, и так будет.
Щеки Авиенды расцвели пунцовым цветом, но Илэйн нужно было слушать Виендре. И бороться с краской, залившей щеки.
– В тебе тоже есть насилие. Отрицать это – все равно что отрекаться от самой себя! Неужели ты никогда не впадала в ярость, не бросалась с кулаками? Никогда не проливала кровь? Никогда тебе не хотелось этого? Никогда не видела иного пути? И мысли другой не было? Пока ты дышишь, насилие останется в тебе, без него нет тебя.
Илэйн подумала о Таиме, о других подобных случаях, и лицу стало жарко, как будто у натопленной печки.
На этот раз ответ был не один.
– Твои руки ослабеют, – говорила Тамела Авиенде. – Ноги утратят былую быстроту. Юнец окажется способен вырвать нож из твоей руки. Пригодятся ли тебе тогда умение владеть ножом или твоя свирепость? Сердце и разум – вот твое истинное оружие. Но разве, когда ты стала Девой, ты за один день научилась владеть копьем? Если ты не заточишь ныне разум и сердце, ты постареешь и дети способны будут запутать тебя. Клановые вожди усадят тебя в уголок играться с «кошачьей колыбелькой», а когда ты заговоришь, все услышат только ветер. Не забывай и, пока можешь, учись побеждать умом.
– Красота мимолетна, – продолжала Виендре, обращаясь к Илэйн. – Пройдут года, и груди твои обвиснут, плоть ослабнет, кожу покроют морщины. Мужчины, что улыбались, глядя на твое лицо, станут разговаривать с тобою так, словно бы ты – просто другой мужчина. Муж твой, может, и будет видеть тебя всегда такой, какой увидел впервые, но никто из других мужчин не станет грезить о тебе. А разве ты не останешься собой? Твое тело – всего лишь покров. Твоя плоть усохнет, но ты – это твои сердце и разум, а они не изменятся, разве что станут сильнее.
Илэйн покачала головой. Не отрицая, но и не соглашаясь. Впрочем, она никогда не задумывалась о старости. Особенно с тех пор, как отправилась в Башню. Груз лет не слишком тяжек даже для очень старых Айз Седай. А если она проживет столько же, что и женщины из Родни? Это, разумеется, означало бы отказаться от планиды Айз Седай, но что все-таки в таком случае? Родня стареет очень медленно, но и им не избежать морщин. О чем думает Авиенда? Она стояла на коленях с весьма… угрюмым видом.
– Что самое ребяческое в женщине, которую вы хотите взять в первые сестры? – спросила Монаэлле.
С этим проще, и не так чревато последствиями. Говоря, Илэйн даже улыбнулась. Авиенда тоже ухмыльнулась – вся ее угрюмость куда-то исчезла. Вновь плетение сохранило слова девушек, освободив разом их голоса, в которых слышался смех.
– Авиенда не хочет учиться плавать. Хотя я и пыталась ее научить. Она не боится ничего, кроме воды, если той больше, чем в ванне для купания.
– Илэйн лопает сласти, хватает двумя руками, точно ребенок, сбежавший из-под надзора матери. Если не прекратит себя так вести, к старости растолстеет как свинья.
Илэйн вскинулась. Лопает? Лопает? Она просто пробует, вот и все. Хочется же попробовать и то, и это. Растолстеет? И почему Авиенда так на нее зыркает? Разве не ребячество – отказываться заходить в воду глубже, чем по колено?