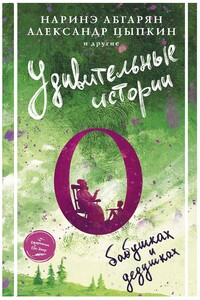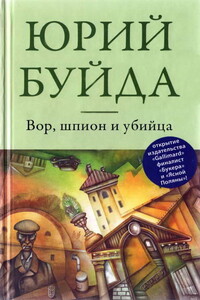Внутри у него взрывалось и клокотало. Голод, терзавший Крупина, почти отступил. Он освободил место для ярости. Она рвалась наружу, искала выход. Крупин оглянулся. Улица стояла мертвая, в колком дожде. Тополиная аллея ползла вверх – к станции метро «Университет», к саду магнолий. Когда Крупин еще жил, он любил гулять там. Но слишком давно в саду не был.
Не найдя жертвы, промокнув, Крупин добрался до «пятачка», где еще вчера стоял памятник Ленину. Теперь от него осталось лишь основание, одно слово на нем – «ЛЕНІН». Куски, осколки – все разобрали. Бесхозными валялись только ошметки ремней, тросов. Крупин помнил, как тянули ими кварцитового Ленина вниз. Шел мокрый снег, похожий на вал жирных гусениц. Сейчас дождь замывал следы.
Крупин полез в бушлат. Достал фотографию прадеда. Она тут же намокла под декабрьским дождем. Крупин убрал ее, запомнив лицо: суровый взгляд, широкие скулы, родинка над верхней губой.
От разобранной пустоты, от стояния в одиночестве Крупин закричал. Он и не знал, что может голосить так, что в легких еще осталось столько воздуха. Размазанная по улице сырость лезла в нутро. Крупин видел себя вчерашнего, пьяного, замученного, певшего украинский гимн. И если жил Бог, то прадед и дед смотрели на Крупина тогда – и сейчас, когда он пришел на оскверненное капище отдать долги.
Дождь не прекращался. Стоять под ним было по-киношному глупо. Усилием Крупин оборвал крик, пошел в сторону Майдана. Движение уняло разрывное желание. Крупин побрел по Крещатику, мимо голых зимних каштанов, украшенных разноцветными лентами. Здесь уже встречались редкие люди. При виде их Крупин зло бормотал: «Суки!» Но бездействовал. Каждый шаг отбирал силы. Крестовый поход так и не повзрослевшего старика превратился в брожение.
Майдан перегородили мусорные баки, соединенные арматурой. Из закопченных бочек маслянисто чадили костры. Возле них грелись люди. На нескольких были надеты кислотно-салатовые манишки с надписью «Народний депутат України». Крупин желчно ухмыльнулся. Люди у бочек говорили о Ленине. Крупин захотел вмешаться, но за последние месяцы разучился говорить, общаться с людьми. Смог лишь подползти, выдавить:
– Мой дед… был к-коммунякой.
Высокий мужик с отливающим красным в свете костра шрамом на правой щеке покосился на Крупина.
– И прадед… б-большевиком.
Кто-то засмеялся. Дым из ближайшей бочки повалил еще гуще. Мужик со шрамом сказал:
– Ну и?
Крупин застыл, как на торос, наткнувшись на ровный, спокойный ответ.
– Тебе чего? – встрял в каличный разговор другой мужик, мордато-щетинистый. – Если ничего, то иди!
Крупин рефлекторно кивнул. Отошел от чадивших бочек, поплелся на Майдан дальше. Слонялся, блуждал меж людей и палаток. В одной пьяная девушка с венком в растрепанных волосах предложила ему печенья. То ли из-за внешности, то ли из-за алкоголя у нее вышло это почти интимно. От одного ее взгляда Крупин испытал забытое сексуальное возбуждение. Но, запнувшись, от всего отказался.
У «Глобуса», сев на ступени, Крупин кончился. Усталость растащила его. То сильное чувство, что он испытал в пустой квартире, сжав ремень, ушло окончательно. Крупин ощутил, как тяжело и неудобно его тело. Оно вновь чесалось, ломило, ныло. Озноб пробил его. Но гаже всего были мокрые от испарины и дождя волосы. Слизкими змеями они облепили голову, ледяными струйками от них ползли гаденькие змееныши. Крупин ерошил волосы, сдавливал голову, но все равно умирал в жерле ледяного вулкана.
– Эй, что с тобой? Эй!
Крупин не сразу понял, что к нему обращались.
– Все добре?[10]
Голосов было два, оба молодых, бойких, но один – мужской, другой – женский. Крупин поднял голову. На него внимательно смотрели две пары глаз. Больше Крупин ничего не заметил. Только глаза.
– У тебя все хорошо?
Змеи и змееныши ползли, шевелились, липли. Крупин мучился от брезгливости к самому себе. Ему сунули в руку горячий пластиковый стаканчик.
– В-вы что… делаете?
– Мы? – удивился женский голос, но мужской среагировал сразу:
– Революцию!
Крупин поднес стаканчик к губам. Даже сейчас он стеснялся своих грязных, заскорузлых рук. Отхлебнул. Горячее алкогольное провалилось в желудок.