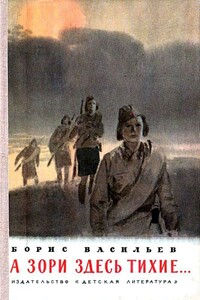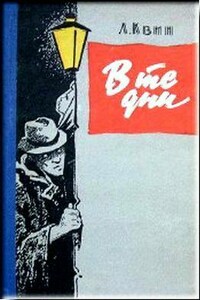Утром девочки встретили её холодными, осуждающими взглядами: Загоруйко, разумеется, рассказала им всё.
После завтрака Нина снова пошла к председателю. У него были люди. Все кричали, курили. Пепельница, как ёж, топорщилась окурками. Дым стоял такой, что она едва различала лица.
— Мне нужно с вами поговорить. — Нина храбро двинулась через комнату к столу председателя.
— Вчера же поговорили. — Он морщился, словно у него болели зубы. — Если можно, поскорее. Садитесь, чего стоять.
— Спасибо. — Она осталась на ногах — на этот раз он её не проведёт. — Школьницы просят, чтобы им уплатили хотя бы по пяти рублей; они говорят, что заработают намного больше.
Её подробно разглядывали со всех сторон, перешёптывались, улыбаясь. От этого и ещё от неприятного сознания мелочности своих требований она говорила резко, почти грубо.
— Ага! По пяти… Я же сказал: у нас нет никаких таких возможностей. Еле дыры латаем с прошлого неурожая.
— Но колхозникам вы платите за работу.
— Ага! Они же работают, а не учатся.
Нина вздохнула. Ей никогда в жизни ещё не приходилось клянчить.
— Степан Сидорович, — неожиданно послышался из дымного облака знакомый голос «зоотэхника», — обижаешь девчонок. Сам знаешь, как они управляются.
— Если наскоблишь гро́ши — плати, — раздражённо бросил председатель. — А у меня всё до последней копеечки расписано. Где лишние взять?
— Ладно, поговорим на правлении, — не то уступая, не то угрожая, сказал зоотехник.
— Словом, так, — председатель снова обращался к Нине, — не обещаю, ничего не обещаю. Так что не надейтесь. И их не обнадёживайте.
Она поняла: отказ. Окончательный и бесповоротный.
Ещё несколько дней прошло, неприятных, дождливых, холодных, совсем не весенних дней.
Девочки втянулись в работу. Все дружно поднимались по утрам, ходили на ферму, потом на завтрак, убирали в своей комнате, поднимая весёлый переполох.
Они отвечали вежливо на все Нинины вопросы, будили по утрам, если она об этом просила; один раз, когда у неё разболелась голова и она не пошла на ужин, принесли остывшую кашу в закопчённом котелке.
И всё-таки… Она чувствовала, она знала: ей объявлен бойкот.
Теперь Нина даже была рада, что у неё своя, отдельная от девочек комната. Хоть здесь она могла снять с себя так тяготившую её маску напускной холодности, за которой она прятала от них своё смятение, здесь могла даже дать волю слезам бессилия и обиды.
Девочки, похоже, настроили против неё и тётю Клашу, от которой у них никаких секретов не было. Правда, она по утрам по-прежнему вежливо здоровалась, осведомлялась о «здоровьице». Но зато перестала подробно рассказывать, как работают девочки, что у них не клеится, и на все вопросы ладила одно:
— Хорошо, всё очень хорошо! Стараются девчата.
Вот слышит Нина, как тётя Клаша отчитывает ученицу:
— Ты что делаешь, что?
Нина, заинтересованная, подходит ближе.
— Кто грязную тряпку сюда повесил, кто, я тебя спрашиваю?
Ученица отвечает виновато:
— Я…
И тут тётя Клаша, уже заметив учительницу, на ходу перестраивается:
— Ну и правильно! Молодец! Молодец!
Нина решила: надо поговорить с кем-нибудь из девочек. Пожалуй, с Олей лучше всего. Рассудительная, доброжелательная. Не то что эта злючка Ася.
Однажды Нина застала Олю одну — девчата ушли в клуб, а Оля почему-то осталась. Позвала девушку к себе в комнату: здесь она чувствовала себя увереннее.
— Скажите, Оля, почему девочки изменили отношение ко мне? Но только правду!
Нина старалась говорить спокойно, ровно, но, видимо, истинные чувства прорвались помимо её воли, потому что на открытом милом лице Оли, отразившем сначала только смятение, она прочитала ещё что-то. Сострадание? Жалость?.. Она не могла понять.
— А вы не обидитесь?
— Нет.
— Вы сами виноваты, Нина Павловна.
— Но я же не могла, Оля, я же всё-таки педагог…
— А разве педагог имеет право злоупотреблять доверием?
Нина вспыхнула:
— Кондина, не забывайтесь!
Оля, ничего не сказав больше, повернулась и вышла.
Нина взялась руками за щёки. Они горели.
«Бессердечные! Все! И Оля тоже. Бессердечные, злые, мелочные! — думала Нина, лёжа без сна на своей длинной кровати. — Вот они мстят мне теперь. За что? За то, что я запретила бывать здесь трактористу-утописту? Или потому, что не смогла выторговать у председателя эти несчастные пятёрки? Они называют его «жмот», а чем сами лучше?»