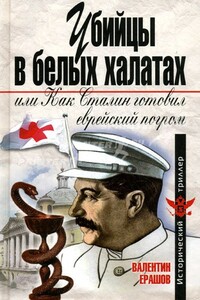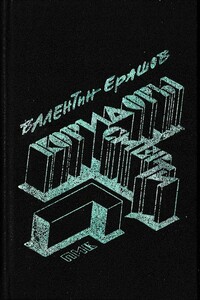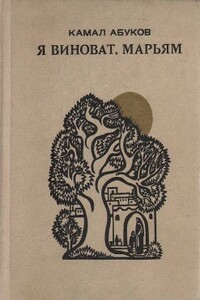— Проскочим, проскочим, скажи? — обрадованно, не дав тому ответить, орет Бжалава. — А нам дальше, к магазину, скажи?
На повороте ЗИЛ тормозит, говорю спасибо, спрыгиваю в пыль, носатый кричит:
— Постой, товарищ, кефир пил, скажи?
— Пил, — отвечаю я.
— Двадцать четыре копейки.
Кефир стоит, как известно, четырнадцать. Отдаю рубль, носатый прячет в карман, приказывает водителю:
— Давай, друг.
— А пол-литра? — спрашиваю я.
— Благодарю, дорогой, — отвечает носатый. — Только сухое вино пью, скажи? Благодарю за приглашение.
Пухлая дорога разветвляется, как в старинной сказке:
«Направо пойдешь — голову сложишь, налево — коня потеряешь»... Левая тянет куда-то в пустоту, по средней умчалась подталкиваемая клубом пыли трехтонка, правая ведет к домишкам, высыпанным кое-как на взгорок. Я смеюсь вдогонку носатому, иду направо.
Странно: еще утром я ехал по улицам республиканского центра, позванивали южные ленивые трамваи, неслышно катились по рябому от вчерашних каблуков асфальту осторожные троллейбусы, в аэропорту ревели белужьими голосами АНы, — сейчас это представилось нереальным, придуманным, приснившимся.
Меня сопровождают безлюдье, пыль, жарынь, тишина.
Я не обнаружил двухскатных палаток и костерков с подвешенными на рогульках котелками, не встретил бородатых парней, не услышал перестука геологических молотков. Как раньше, когда влетали в пустыню, — оказалось все иным, нежели я предполагал.
Иду мимо дощатых одноглазых строений, крытых толем, дранкой, войлоком. Вдоль стены одной хибары ковыляет дегтярная надпись: «Не кантовать!», буквы остались, конечно, от ящика, но и сейчас нелишни. Другая халупка притулилась к столбу, словно привязанная к нему проводом, чтобы не унесло ударом ветра. Жилища сооружали, явно экономя стройматериал, — низкими, разноликими, всяк на свой образец, и все-таки схожими временностью, утлостью, непрочностью. Кое-где торчат юрты, палатки темного брезента, поодаль примечаю несколько белых, розовых и желтых каменных домов с верандами, выкрашенными грубой зеленью. Такой же, только подлиннее и без окон, пластается у дороги, его украшает зеленая — видно, другой краски не было — витрина. Читаю выведенное школьным мелком слово «Кортик» — морское, странное здесь, и не вдруг соображаю, что, наверное, помещается клуб, а «Кортик» в данном случае — название полузабытого фильма.
Контору угадываю сам — спросить не у кого: то ли все попрятались от солнца, то ли разъехались по местам работ, а может, настал час отдыха, уже клонит к вечеру. Единственная живая душа, встреченная мною, — верблюд, он стоял, как огромный муляж, возле белого домика и глядел в окно, по-гусиному изогнув шею.
И в конторе — спрессованная кисловатая жара, молчание и хруст песка на полу. Двери отягощены замками, лишь одна полуоткрыта.
Седой аккуратный старичок — на лице промытые морщины — «давит клопов» одним пальцем на клавишах блестящего «Райнметалла» с развернутой кареткой. Приподнимается, креня плечо, — становится понятно, что старичок хром, — протягивает ладонь и рекомендуется витиевато Арсением Феоктистовичем Наговицыным, прозвания эти будто взяты со страниц романа Писемского или Боборыкина. Отрекомендовавшись, требует документы, изучает их, стоя и не приглашая меня садиться. Морщины то сдвигаются, то расправляются, и в такт движению губ, словно зубная щетка, ходит взад-вперед серая щетина усиков.
Выясняется: рабочий день в конторе давно закончился, приступают спозаранку, до сильной жары, и начальник экспедиции пошел передохнуть, чтоб, как спадет зной, побывать на объектах. Но можно побеспокоить на квартире — так все делают, а товарищу корреспонденту отказа не будет наипаче.
Звонить домой не хотелось, но другого выхода не придумалось, поскольку, сообщил Наговицын, на месторождении Дмитрий Ильич может застрять, а без него — извините уж — в гостиницу никто не распорядится, и вообще...
Перелыгину звонил он, в трубке слышался недовольный голос, как Наговицын ни старался прижать мембрану плотнее к уху.
Перелыгин явился — медвежеватый, прямоплечий. Крепко-накрепко всаженная голова, вислые надбровья, прижатые уши, властный рот и маленькие, кажущиеся ленивыми глаза — вот он какой, Перелыгин.