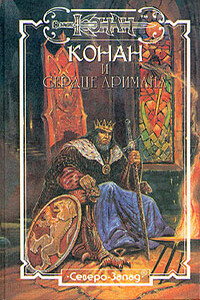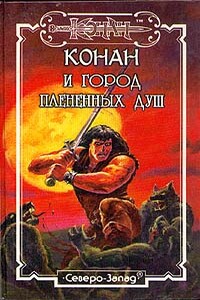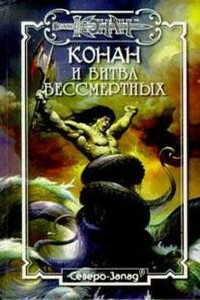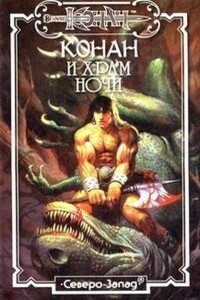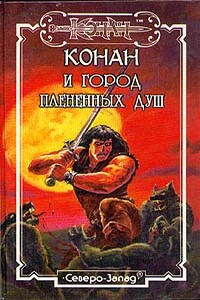Так, например, услышал он имя юноши – Динис, и умилился славному его звучанию; что значило «бежать отсюда подальше», евнух не понял, зато отлично понял прощальное «я тоже люблю тебя», побледнел, сжал пухлые кулачки и едва сдержался, чтоб не ворваться в комнату и не прервать возгласом крайнего возмущения объятая влюбленных, если, конечно, таковые имели место.
Дверь скрипнула, выпуская позднюю гостью. Не заметив Бандурина, который стоял в углу коридора, девушка быстро пробежала к выходу и вскоре скрылась в темноте. Лица, ее евнух не смог разглядеть, но, мельком увидев профиль, узнал соперницу: то была Алма, столь неблагоразумно отпущенная Кумбаром Простаком из императорских невест. Не лютниста ли имел в виду старый солдат, наказывая девушке «целовать его крепче»? Бандурин сморщился от ревности, сдавившей холмистую грудь его, и, стараясь не слишком заметно колыхать жирами, вошел в освещенную одною свечой комнату юноши.
* * *
– Хр-р-р… Мр-р-р… Ур-р… О, красивый и отважный орленок, парящий в небесах над Аграпуром! Весь день помышляю узрить твои глаза, твои руки и гибкий стан… – бормотал Бандурин, переминаясь с ноги на ногу. – Не прогоняй же раба твоего ни нынешней ночью, ни будущей! Готов принести тебе в дар я все богатства, накопленные долгим и тяжким трудом, готов лобызать стройные ноги твои, только позволь прилечь на скромное ложе сие и раз делить с тобою одиночество и печаль…
Динис с удивлением смотрел на жирную тушу скопца, плохо понимая, что тому нужно. Зачем он хочет лечь на его топчан? Устал? А может, ему негде жить? Но почему он пришел именно к нему?
– Я алкал… – сиплым писком продолжал тем временем Бандурин. – Алкал встречи с тобою, мой юный друг. О, нежный и душистый лепесток большой красивой розы… Роза, – счел нужным пояснить евнух, – это мое сердце, ибо… ур-р-р… Ибо я алкал…
Красноречие скопца иссякло, и теперь он стоял перед юным лютнистом молча, тараща на него маленькие черные бусинки глаз.
Так и не сообразив, что нужно от него этому жирному старцу, Динис устало вздохнул. Природное спокойствие и уважение к преклонным годам не позволяли ему изгнать незваного гостя, но после целого дня во дворце, где он без отдыха играл на лютне праздным придворным и будущим императорским невестам, сил осталось только на то, чтобы положить голову на свернутую в жгут куртку и уснуть. Евнух же, судя по всему, уходить не собирался: пыхтя и потея, он выжидательно смотрел на юношу, и каждый вздох – глубокий и невозможно печальный – сопровождал чесанием за ухом.
Динис с отвращением взглянул на его руки, белые, пухлые и холеные, как у женщины, но при этом волосатые; да и весь облик пришельца заставлял его алкать немедленного ухода скопца, так же, как тот алкал встречи с ним.
Вздохнув в унисон с Бандурином, лютнист вежливо улыбнулся и промолвил нежным звонким голоском:
– Не гневайся, любезный… Я очень устал. И… уйди, прошу тебя.
Пораженный в самое сердце, евнух качнулся от горя, умоляюще взглянул в синие глаза.
– Уйди, – твердо повторил Динис. – Эрлик не велит шастать по ночам оскопленным.
– Ка-а-ак? – выдохнул изумленный Бандурин. – Ты уверен?
– Мне было видение, – кивнул ободрившийся юноша. – Тарим явился ко мне в сон прошлой ночью. Ведай, говорит, мальчик: да не выйдут в ночное время из дому скопец и пьяница, ребенок и музыкант…
– А музыканту почему нельзя? – разочарованно осведомился евнух, только что намеревавшийся пригласить лютниста к себе, если уж Эрлик так против его ночных прогулок.
– Сам удивляюсь, – пожал плечами Динис, зевнул и, более не желая продолжать беседу, свернулся клубочком на своем топчане. – Ну, ступай. Ступай же, любезный…
Сонный голос его действовал на скопца завораживающе, но делать было нечего. Вторично обозвав про себя Эрлика бородатой свиньей, чинящей препятствия покорным рабам своим даже в любви, Бандурин последний раз взглянул на юного красавца, наполнил следующий вздох печалью и удалился.
Динис к тому времени уже спал.
* * *
Илдиза Великолепного с самого утра мучила одышка. Он и проснулся на рассвете в своих роскошных покоях не от первых, мягких и теплых, лучей восходящего солнца (кои, впрочем, и не проникали сквозь темные бархатные занавеси, задернутые по распоряжению заезжего лекаря), а от недостатка воздуха. Настой минь-синя, привезенный из Кхитая придворным астрологом, лишь чуть облегчал страдания Великого и Несравненного.