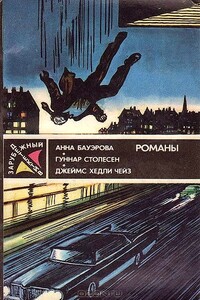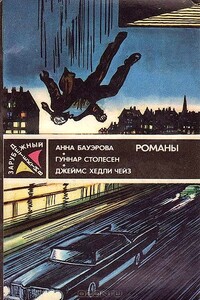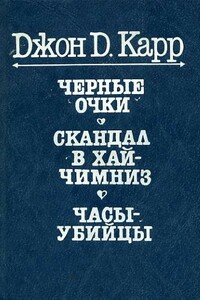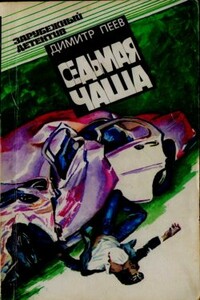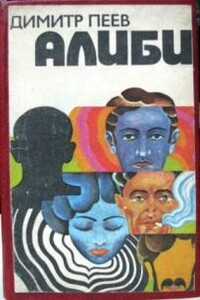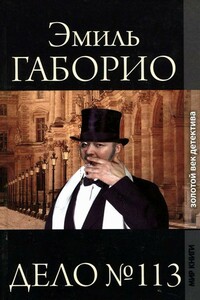Шатеву ничего другого не оставалось, как снова пройтись мимо дома, внимательно его оглядывая. Теперь его заметили: во двор вышла смуглая (смуглая!) женщина лет сорока пяти — пятидесяти, держа в руке половник. Она медленно приблизилась к деревянному забору, однако калитку не открыла.
— Чего вылупился?
— Мне бы Ангела, — смиренно сказал Шатев.
— Нету твоего Ангела. Двигай своим путем. Не на что тут глазеть. Чего тебе от него надо-то?
— Да сговорились мы насчет машины. Посмотреть надо, что за тарахтелка.
Капитан стрелял наугад — и, кажется, попал, поскольку женщина сбавила тон. Пригласив войти, она повела его к машине. Ключ от зажигания был на месте…
— А где Ангел?
— Не знаю. Где-то запропастился.
— Без машины?!
— С четверга пропал. Вечером, часов в десять, поехал куда-то. Утром смотрю: машина на месте, а его нет. И до сих пор не показывается.
— А кто же машину привел?
— Он и привел, кому ж еще. Только я его не видела.
— Кто-нибудь после этого трогал машину?
— Ну да, пусть попробует. Ангел кому угодно руки-ноги переломает. Спиридон и тот побаивается… Слушай, а чего это ты меня допрашиваешь? Ты кто такой?
Тем временем две машины остановились напротив.
— Капитан милиции я, хозяйка, — сказал по-прежнему смиренно Шатев.
— Надо же! Капитан. Погоди, я сейчас вот участкового позову! — Она оглянулась и увидела оперативников во главе с седовласым Цветановым в форме.
Женщина по имени Цона оказалась теткой Нанай Маро — сестрой отца. Ошарашенная набегом милиционеров, она без разговоров сдала семейную крепость. Напрасно Цветанов чуть ли не силой пытался предъявить ей разрешение прокурора на обыск — Цона не пожелала с ним познакомиться (если, конечно, вообще умела читать).
Когда группа вошла в дом, Шатев с дактилоскопистом Миньо Драгановым обследовали синий «москвич».
— Следы одного только Нанай Маро, — сказал Миньо. — Я их уже знаю, последнее время насмотрелся. На баранке, на рычаге переключения скоростей, на ключе зажигания и на левой передней дверце сильно размазаны, почти негодны для идентификации. Или их пытались стереть, или тот, кто привел сюда машину, был в перчатках.
Не намного богаче был и улов в доме. Тетка показала оперативникам комнату Ангела. Выяснилось, что жил Ангел припеваючи, одевался сверхмодно, пил дорогой коньяк, как болгарский, так и иностранный, о чем свидетельствовала батарея пустых бутылок, среди которых поблескивала этикеткой даже такая диковинка, как коньяк марки «Мадам Вонч». Однако ни валюты, ни золота, ни драгоценностей обыск не выявил.
Вернулись домой муж и сын Цоны. Симо Рашидов оказался работником транспорта. Спиридон, паренек лет шестнадцати, был в модном джинсовом костюме, но в грязных ботинках.
Полковник, отослав экспертов, сидел в гостиной за столом. Хозяева дома стояли, не захотев присесть, ожидая, что скажет большое начальство.
— Кто родители Ангела? Есть у него жена, дети?
— Он не женат — откуда ж дети, — отозвался Рашидов. — Мать его бросила маленьким, с каким-то типом умотала. Жива ли, нет ли — не знаем. А отец его… отец… — Симо взглянул вопросительно на свою жену.
— Что — отец? — Полковник нахмурился. — Говорите.
— Дело в том, — вмешалась тетка, — брат мой живет в Сливенском округе, в селе Клуцохора, это так далеко…
— Ничего, и его надо уведомить…
— Про что уведомлять-то?
— Вряд ли вы его трезвым застанете. — Рашидов покачал головой. — Осенью гонит сливовицу, потом одиннадцать месяцев ее пьет.
— Уведомлять-то про что? — повторила тетка.
— Про то, что Ангел умер, — отчеканил полковник.
— Умер! О господи ты боже мой! — завопила Цона. — Ты что, разыгрываешь нас, начальник? Как так — умер? Слышите, лю-у-у-ди!..
— Разве со смертью шутят, женщина? — укорил ее полковник. — Мы нашли его утром, в четверг. Далеко отсюда.
— Ой-ёй-ёй! — закричала Цона еще более пронзительно. — Ой-ёй-ёй! Ангелочек мой миленький…
— Кончай! — заорал на жену Рашидов. — Марш на кухню, там и вопи сколько влезет!
Он не только не скорбел — наоборот, выражение спокойствия и умиротворенности прочитывалось на его лице.
Самой интересной была реакция племянника Нанай Маро. Шатев не участвовал в допросе и мог внимательно наблюдать за ним. Парнишка был глубоко потрясен. Глаза его, словно потерявшие способность видеть, выражали неподдельную скорбь, кроме того — ужас. Будто Спиридон готов был услышать страшную весть, но услышав, все-таки отказывался в нее поверить.