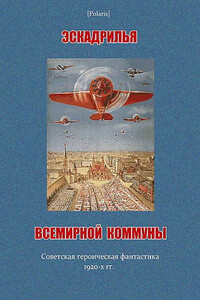Крейслер пригласил гостей завтракать, но специалист потребовал уединения. Пришлось отвезти его в контору, где складывали нехитрый и бедный инвентарь разведок: компасы, гербарные сетки с образцами растений, палатки, переметные сумки, фляги, войлок. Михаил Михайлович принялся было с гордостью показывать образцы кубышек, разведочные ведомости, но Чихотин, бегло взглянув на заваленный стол, спросил:
— Как вы думаете, я не продешевил, назначив за истребление саранчи пятьсот рублей золотом? Мне, разумеется, как изобретателю. Я не бескорыстный маньяк, идеи стоят денег. Мы машины, дорогие машины для выработки мысли.
Розовые глаза его мелькали в странном дрожании, может быть, в тревоге, но голос тек ровно. Крейслер ответил, что не может помочь решить вопроса о плате, это не его дело. Чихотин наставительно говорил:
— Немедленно же прочтите статью, это займет у вас несколько минут, она отчеркнута красным карандашом. Она обогатит вас. Все большое — просто и коротко. Она проста и коротка. Нужно бросить старый хлам, эти кубышки и их изучение. Одна идея способна перевернуть всю эту ученую рутину и двинуть вперед человечество. Не надо бояться свежего воздуха. Ведь здесь есть река, озеро?
Крейслеру все это переставало нравиться, и он ответил так, чтобы специалист обиделся:
— Азиатская саранча, Locusta migratoria, гнездится, как известно, преимущественно и главным образом в тростниках и в растительности около больших водоемов.
Чихотин обрадовался, пробежался, потирая руки, по комнате и сел за стол.
— Вот видите, как хорошо. Значит, река есть. Это входило в мои планы. Оставьте меня одного, идите читать статью. Прочитав, подумайте. Я буду размышлять. Пришлите поесть.
Эффендиев пил чай с Таней, деловито беседуя о семье и Ираке. Он не терпел пустых разговоров: агронома расспрашивал о земледелии, врача о санитарии, с коммунистом говорил о партработе, от Тани он надеялся получить своеобразное освещение вопросов пола. Так всегда он, — или учился, или учил, или отдавал распоряжения.
— Найти новую семью нелегко. Гораздо легче разрушить старую, — говорила Таня. — Как вы сами живете с женой?
Таня знала, что он женат на тридцатипятилетней фельдшерице станции Асад-Абад, и, по рассказам Михаила Михайловича, давно составила представление о ней. В тридцать пять лет они все, как одна, эти фельдшерицы, малокровные и трудолюбивые, Таня проработала с ними на фронте несколько лет.
— Она у меня самостоятельная, старая, все сама. Одна живет, зарабатывает. Я редко у нее бываю, некогда. Она понимает, не сердится.
Таня перебила его, раздражаясь:
— Жену вы свою не любите или почти не любите. Она вас или мало любит, или очень горда. Но это не брак и не семейная жизнь. Я бы так не могла. Для меня любовь и брак — безграничное владение друг другом.
Эффендиев промолчал, как будто не расслышал.
Крейслер с трудом нашел напечатанную мелким шрифтом на четвертой странице заметку, старательно обведенную красной чертой. «Неиспробованная мера» называлась она. Автор предлагал протянуть длинную проволоку с горящими тряпками по полю, на котором сидит крылатая саранча, и наступать на нее. Саранча, испугавшись огня, должна подыматься и улетать. Крейслер прочитал эту заметку два-три раза, подумал, еще раз прочитал. Поискал объяснений, не нашел. На второй странице был напечатан фельетон знаменитого туркестанского энтомолога С., который доказывал, что борьба с лётной саранчой дело безнадежное и все силы надо сосредоточить на истреблении пешей — личинок, ликвидируя постоянные гнездилища.
— Твой Чихотин, — сказал Крейслер все время молчавшему Эффендиеву, — или шарлатан, или сумасшедший. То, что он пишет тут, — бред.
— Ты слишком скор осуждать и порочить. — Эффендиев даже закусил губу. — Зря печатать всякое вранье не будут в наших коммунистических газетах. Надо послушать, что он скажет. Вы, интеллигенты, любите замыкаться в своем высокомерии, идей боитесь, свежего воздуха. А он, самоучка, пролетарий, который выдвинулся, кипит.
Он расстроился. Попросил верховую лошадь, предложил немедленно поехать в тростники. По дороге попрекнул с сердцем: