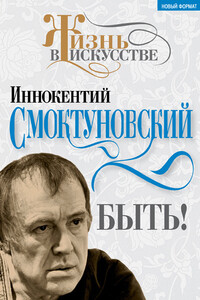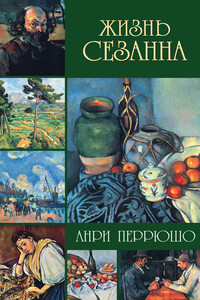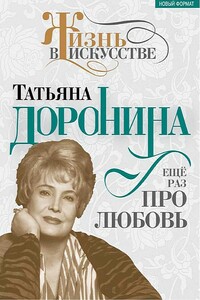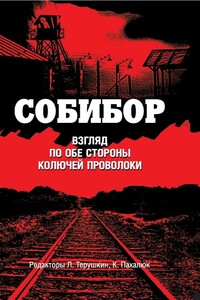Нерадивый инок и приятный живописец был торжественно погребен в 1469 г. в Сполето, в великолепной гробнице из белого и красного мрамора, в церкви, расписанной им самим. Богобоязненные сполетцы чтили захоронение великого грешника наподобие местной реликвии и даже отказали сыну покойного, просившему от имени Медичи перевезти останки отца на родину, мотивируя свой отказ тем, что во Флоренции и без того довольно достопримечательностей. Филиппино Липпи позволили только высечь на отцовской гробнице латинскую эпитафию сочинения отменного поэта Анджело Полициано:
«Здесь я покоюсь, Филипп, живописец, навеки бессмертный,
Дивная прелесть моей кисти — у всех на устах.
Душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краски,
Набожных души умел — голосом бога смутить.
Даже природа сама, на мои заглядевшись созданья,
Принуждена меня звать мастером, равным себе».
Делая скидку на погребальное красноречие тех времен, которое требовало непременно превосходной степени в оценке заслуг усопшего, следует все же признать большие достоинства фра Филиппо как живописца — звучную красоту его красок, естественную жизненность образов в сочетании со светлою их поэтичностью. У Липпи меньше сказочной изобретательности, чем у Гоццоли, зато нет и его утомительного перечисления житейских подробностей.
Общеизвестному сумасбродству учителя несомненно пришлось по душе скрытое сумасбродство ученика — фра Филиппо не мог не постигнуть хотя бы отчасти того, чего не сумели разгадать родственники Сандро, что приводило в такое недоумение его отца. Художник становится для душевно одинокого подростка первым истинным духовным отцом — отцом по святому призванию к живописи, по вольнолюбию, по искусству.
Тем не менее, скоро познав секреты мастерства Липпи, по отъезде учителя на работу в Сполето (откуда тот уже не вернется) в 1467–1468 гг. Боттичелли начинает посещать мастерскую иной, уже более интеллектуальной направленности. Боттега Андреа Верроккио походила не столько на художническую вольницу, сколько на серьезную художественную школу, на маленькую академию, на научно-экспериментальную лабораторию. Искусство Андреа и его многочисленных учеников готовилось к миссии самой ответственной на данном этапе — концентрировать в себе все важнейшие достижения художественной практики под контролем научной мысли, почти в полном согласии со строгим идеалом Леон-Батиста Альберти.
Сам Андреа Верроккио в яркости личности далеко уступал фра Филиппо Липпи, зато был одареннейшим педагогом. Тонко угадывая особенности развития каждого, не оказывая ни малейшего давления, Верроккио тактично и осторожно направлял индивидуальность учеников. В его «академии» царила удивительная «одновременность разных возрастов» и дарований, направлений и мнений в самом широком смысле. Здесь жития Христа, Богоматери и святых с непринужденностью переносятся в современную обстановку, а Рождество или Успение, да и всякое священное чудо показывают как реальное общественное событие уже без карнавала Гоццоли и вне компромиссного небесно-земного решения, всегда отличавшего Липпи. Правда, искусству, проводимому в жизнь спокойной трезвостью Верроккио, не требуется уже и высокая этическая страсть, которая придавала нечто общечеловеческое произведениям Мазаччо. Здесь царит рассудительная логика сегодняшнего дня. Но неизвестно еще, в каком направлении повернет всю эту трезвую ясность прихотливое своенравие таких учеников неутомимого экспериментатора, как Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи.
Пробыв у Верроккио чем-то вроде вольнослушателя примерно до 1469 г., в 1470-м Боттичелли уже работает самостоятельно.
Учителя и предшественники
Ни Верроккио, ни Липпи не были первооткрывателями раннего Возрождения. Оно началось с особой «подлинности и вещественности», которые внесли в искусство росписи Мазаччо, скульптура Донателло и смелость архитектурных решений Филиппо Брунеллески.
Фра Филиппо мог рассказывать Боттичелли о Томмазо Кассаи, сыне нотариуса из сан Джованни, ставшем известным под именем Мазаччо (1401–1428), который был всего на пять лет старше жизнерадостного кармелита. Фресковый цикл Мазаччо в церкви дель Кармине по заказу богатого шелкодела и политического деятеля Феличе Бранкаччи в 1427–1428 гг. сделался истинным манифестом нового искусства.