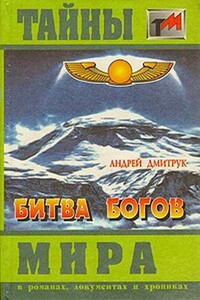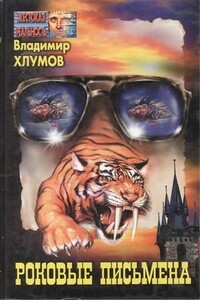…До чего же мы все живем под прессом — то страха (общего) атомной войны, то — рака (личного и узкосемейного). Ей-богу, лучше быть потупее… впрочем, как подумаешь, что зато исчез бы весь широкий и интереснейший мир, нет, не лучше! Расплачиваться все равно неизбежно и за то и за другое, только по-разному… Когда Вы излечитесь от Вашей светлой романтики, Владимир Иванович, дорогой? Впрочем, не излечивайтесь, не нужно — лучше прожить наивным соколом, чем софистической змеей…”
“Абрамцево, 20.06.60. Дмитревскому.
Как силен вечный человеческий протест против неизбежности смерти и когда же наконец мы сможем преодолеть его? Что тут надо — веру в науку или какую-то особенную религию, вроде индусской? Но и в последней ведь смерть только тогда освобождение, когда мудрец уходит из жизни в экстазе — самадхи, якобы в соединении с божеством…”
Совсем малый круг друзей посвящен в истинную картину его здоровья. Какая же сила духа нужна, чтобы писать о себе самом так доверительно и спокойно:
“Москва, 6 марта 1967. Дмитревскому.
…Должен предупредить Вас, что это письмо — только Вам, как пишут в английской секретной службе, судя по Джеймсу Бонду — “фор йор айз онли” — только для Ваших глаз… В последней моей кардиограмме произошло ухудшение… Само по себе это не непосредственная опасность, но в совокупности со всем, что есть, — неважно. Энергии не осталось — броненосец тонет.
Кроме шуток, у меня ощущение, что я как хороший броненосец, с большой силой машин, запасом плавучести и т. д., но получивший пробоину, которую никак не могут заделать… И вот медленно, но верно заполняется водой один отсек за другим и корабль садится все глубже в воду. Он еще идет, но скорости набрать нельзя — выдавятся переборки, и сразу пойдешь ко дну, поэтому броненосец идет медленно, почти с торжественной обреченностью, погружаясь, но с виду все такой же тяжелый и сильный. А в рубке управления мечется, пытаясь что-то сделать, капитан — мой Тасенок (Т. И. Ефремова. — Ф.Д.) и экипаж из моих друзей, готовых сделать, что возможно, кроме главного — пробоина не заделываемая. Так и у меня — с каждой новой кардиограммой смотришь, как выполаживаются одни зубцы, опускаются другие, расползаются вширь, осложняясь дополнительными, третьи. Эту картину я отчетливо вижу и сам. Это — не паника, не внезапный припадок слабости или меланхолии, просто облеклось в поэтический образ мое заболевание. И не говорите ничего никому, ведь сколько осталось плавучести — величина неопределенная, зависит от общей жизненности организма, и может быть, не так уж скоро, кое-что, во всяком случае, успею сделать — это я как-то внутренним чутьем понимаю, хоть и не исключаю возможности внезапного поворота событий — но ведь это уже опасение кирпича на голову и потому не принимается во внимание. Как-то всегда привлекал меня один эпизод из Цусимского боя. Когда броненосец “Сисой Великий”, подбитый, с испорченными машинами, спасаясь от японцев, встретил крейсер “Владимир Мономах” и поднял сигнал: “тону, прошу принять команду на борт”. И на мачтах крейсера взвились флаги ответного сигнала: “сам через час пойду ко дну”. Мой броненосец пока не отвечает этим сигналом людям, введенным в заблуждение моей всегдашней бодростью, но дело к тому пошло за последний год довольно быстро… “фор йор айз онли” кончилось”.
В Иване Антоновиче была очень сильна ответственность перед другими. Постоянно подбадривая друзей и близких, любому протягивая руку помощи по первой просьбе и даже без просьбы, он жил сознанием, что человек, делающий подарки, едва ли не счастливее того, кто эти подарки получает.
Для всех нас такими подарками были его научные открытия и книги.
“Не снобизм и не мания величия…”
Удивительно, насколько не устарели мысли Ивана Антоновича, насколько метки его попадания в сегодняшность, скажем, о писательском труде:
“Москва 29. 06. 74. Дмитревскому.
…На опыте “Лезвия” пришел к заключению, что писательство в нашей стране — дело выгодное лишь для халтурщиков или заказников. Посудите сами — я ведь писатель, можно сказать, удачливый и коммерчески “бестселлер”, а что получается: