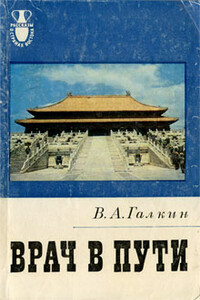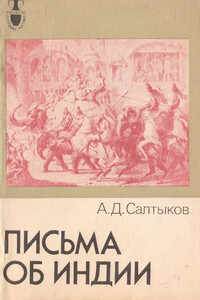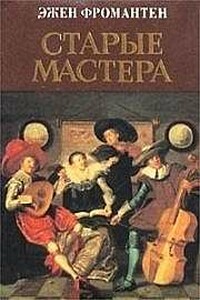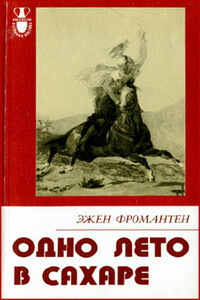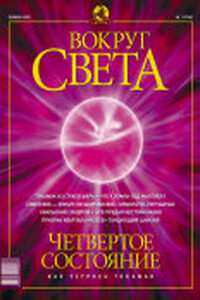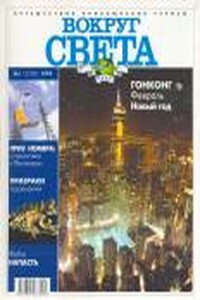Совершенно точно подметив, что алжирцы «действительно нас ненавидят», автор указывает и на оборотную сторону медали: стремление алжирцев замкнуться, закрыться за глухими, без окон, стенами даже от доброжелательного, но все же любопытного взора чужеземного иноверца. Как бы между строк читается интуитивное ощущение автора: враждебно настроенный к французам народ — это мир потерпевших, обездоленных, нокаутированных иностранным вторжением людей. И, хотя они сами страдают от этой своей враждебности, они имеют на нее моральное право.
Фромантен не только наблюдает за алжирцами всех рангов, от халифа до слуги, за их обычаями, повседневными занятиями, пышными выездами и трудовыми буднями. Он вслушивается в их рассказы, вглядывается в их лица. Отступая от документальности ради художественности, он домысливает, достраивает их образы, стремится сделать их понятными читателю. Художественное начало в его произведениях не противоречит документальному. Над всеми деталями, романтическими преувеличениями, оговорками, неточностями и парадоксами текста властно доминирует светлый оптимизм и гуманизм автора. «Кого я надеюсь здесь найти? — задает он риторический вопрос. — Араба или Человека?». Для Фромантена человек — прежде всего. И, обращаясь к своему современнику — французскому читателю, Фромантен первым из писателей Франции призвал увидеть и оценить в алжирце Человека во всем его духовном богатстве и многообразии, Человека, имеющего право на уважение и национальное достоинство.
Это тем ценнее, чем больше мы узнаем из текста о реальном положении в Алжире середины прошлого века. Сравнение, например, города Блиды с утратившей былое очарование красавицей говорит о ностальгии автора по не затронутому европейским влиянием «настоящему» Востоку. Вместе с тем он далеко не всегда воспринимает действительность сквозь пелену романтизма: «Плодородная почва, обильные воды, распределяемые лучше, чем до сих пор, используются французскими предпринимателями. Нам принесет богатство то, в чем арабы находили лишь развлечение». Фромантен совершенно упускает из виду, что до французского вторжения арабы не только «развлекались», ибо известно, что сельское хозяйство Алжира с XVII в. было хорошо налажено и, в частности, не только могло прокормить страну, но и снабжало хлебом Францию. Но автор, несомненно, прав, говоря о лучшем использовании французскими колонистами почв и водных ресурсов Алжира, в том числе ранее неиспользуемых, а также — об обогащении новых владельцев отобранных у арабов земель.
Один из наиболее заметных недостатков Фромантена — необъективная оценка деятельности национального героя Алжира эмира Абд аль-Кадира. Не останавливаясь специально на этой весьма примечательной фигуре, автор то и дело о нем упоминает, причем, как правило, не сочувствуя ему и во многом повторяя расхожие клише официальной французской историографии того времени. Но эта историография всячески искажала и принижала значение Абд аль-Кадира для алжирской истории. Причина этого в том, что французские войска, вторгшиеся в Алжир, очень долгое время не могли сломить сопротивление племен внутренних областей, особенно начиная с 1832 г., когда эти племена на западе и в центре Алжира возглавил 24-летний талантливый политик, поэт и военачальник Абд аль-Кадир, сын Махиддина, вождя племени хашим и мукаддама (руководителя) военно-религиозного братства Кадырийя.
Избранный эмиром, Абд аль-Кадир нанес колонизаторам ряд поражений и заставил их признать созданное им государство. Очевидно, именно поэтому он заслужил у французов репутацию «первого полководца современной Африки». Так характеризует его и Фромантен. Тем не менее жажда покорения Алжира, его экономического и военного подчинения толкала французских колонистов к возобновлению войны. Поэтому они систематически нарушали ими же заключенные с эмиром договоры («договор Демишеля» 1834 г., Тафнский договор 1837 г.) и провоцировали военные действия. Однако были и мирные передышки. Абд аль-Кадир пользовался ими для реформы администрации, судопроизводства и взимания налогов, для строительства новых крепостей, налаживания торговли и монетного дела, реорганизации и перевооружения армии