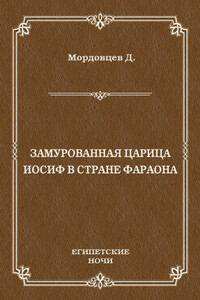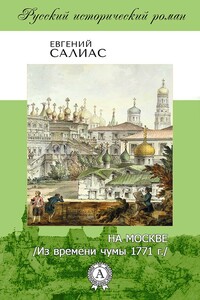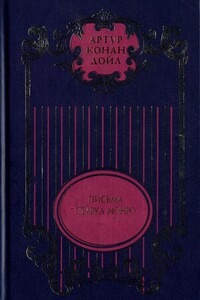Это было для украинца действительно волшебное, пугающее своей невиданностью зрелище... Так сердце и ныло почему-то при виде этих чудес...
А оно ныло вот отчего... Кафинская пристань запружена была кораблями, галерами, каторгами и всякими судами. Невиданные всех цветов и величин флаги и значки на вершинах мачт и на снастях реяли в голубом воздухе, точно сказочные птицы или змеи. Виднелись чуждые образа, чужие лица, странные, невиданные одеяния. Раздавался гул незнакомых языков... Но резче всего, пронзительнее звякали недалеко от пристани какие-то цепи... На чем они?.. На ком?.. Кто это звякает?..
Казаки осмотрелись и увидели огромную, черную и неповоротливую, как черепаха, турецкую галеру, на которой у каждой уключины стояли и сидели, скованные иногда по двое, галерники, прикованные притом гремучими кандалами к скамьям, и неустанно работали на веслах, потому что галера вела на буксире несколько судов из Анатолии, нагруженных тяжелыми товарами. Вглядевшись в работавших, как волы, и обливавшихся потом галерников, казаки узнали их и затрепетали от жалости: они узнали в них «бідних невольників», большею частью своих казаков, а также москалей и ляхов... Казацкий элемент господствовал, однако... Это были не люди, а какие-то страшные привидения, обросшие волосами и бородами, почти совсем нагие, с железом и ремнями, въевшимися в кости, ибо тела на них почти не оставалось... Они работали как автоматы, плавно покачиваясь взад и вперед, а по их рядам ходили турки-приставники, и если видели, что который-либо из них, изнемогая от непосильной работы, от голода или бессонницы, неровно работал веслом, то стегали его по голым плечам, по спине и по косматой голове либо сыромятным крученым ремнем, либо гибкими деревянными хлыстами — червонною таволгою >[Червонная таволга — разновидность красной лозы, из которой делали канчуки и шомполы для ружей]... Их было набито на галере целое стадо — старые, с седыми, даже пожелтевшими от времени волосами и бородами, и юные, с неоперившимися еще подбородками, но уже постаревшие от горя и физических страданий... Когда взвизгивала в воздухе червонная таволга и впивалась в голое тело невольника, он не смел даже отнять рук от весла, чтоб, по животному влечению, схватиться за уязвленное место, а только извивался всем телом и бросал жалобный, безнадежный, как бы полный немого укора взор к этим прекрасным, но таким же немым и безжалостным, как турецкий приставник, небесам...
— Мати божа! — вырвался невольный стон из груди старого Небабы, а по загорелым щекам Олексия Поповича текли слезы и скатывались на его татарскую куртку.
Один Сагайдачный как бы не замечал галеры и не смотрел на нее: он сидел мрачный, безмолвный, устремив из-под густых черных-черных — при седых усах — бровей неподвижный взор на пристань.
— Не глядите на галеру, — тихо сказал он, — может, который невольник узнает кого да еще от радости крикнет.
И Небаба, и Олексий Попович отвернули свои лица от потрясающей картины невольничества. А галера продолжала медленно двигаться, а в воздухе и в душе наших казаков продолжало кричать и плакать звонкое железо кандалов...
Пробираясь среди всевозможных судов, над которыми стоял невообразимый гул неведомых языков, казаки поражены были какими-то особыми, стройными звуками, какой-то стонущею из глубины души мелодиею. Глянув по направлению этого мелодичного стона, они увидели новую партию невольников, значительно отличавшихся внешностью от сейчас ими виденных. Эти были, казалось, еще ободраннее, еще голее, если только это возможно было, и большею частью русые и рыжие, и что особенно бросалось в глаза — это лапти на ногах у них; каковы были эти лапти, из чего свиты и сплетены — об этом нечего и говорить; но это было подобие лаптей. На каждого из них был надет, как на коноводную лошадь, кожаный хомут, а от хомута шла бичева, оканчивавшаяся канатом, который тянул огромную посудину, нагруженную камнем. У каждого на ногах звякали тоже кандалы, но такие узкие, что ноги схомутованных невольников могли делать только маленькие шаги. Их было нахомутовано у каната несколько свор, и они, покачиваясь в такт, опустив к земле головы и руки, которые болтались, словно параличные или вывихнутые, стонали как видно перенывшею и переболевшею грудью: «Эй, дубинушка, ухнем!»