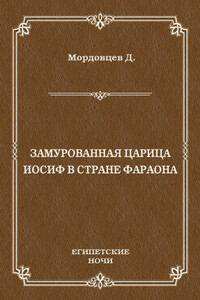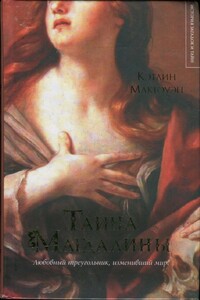Сагайдачный. Крымская неволя - страница 32
— А не пойти ли нам, шановные панове, до шинкарки? — сказал один из дуков, искоса поглядев на оборванца-нетягу.
— До Насти Горовой, шинкарочки степовой? — спросил, ухмыляясь, другой дука >[Дуки — богачи].
— А хоть бы и до Насти, — отвечал первый.
— Добре, панове! У нее такой есть запридух — горилка оковита, что аж очи рогом лезут от единой чарки, — пояснил третий.
Нетяга как бы и не слышит этого, да и исчез меж возами с яблоками и грушами.
Когда, однако, дуки вошли в шинок и поздоровались с красивою молодою шинкаркою, которая показала им все жемчужные зубы из-за коралловых губок, они заметили, что оборванец-нетяга был уже тут: он стоял скромно у топившейся печки и, по-видимому, сушил у огня свою еще накануне промокшую от дождя шапку, готовую, казалось, совсем развалиться.
Хотя, по народному обычаю, позже вошедшие в шинок и должны были поздороваться с прежде вошедшим, какой бы он ни был оборванец и даже пропойца, однако кичливые дуки этого не сделали и важно уселись за стол.
— Гей, Насте-сердце! — сказал старший из дуков.
— Давай нам меду и доброй горилки!
— Какой же, паночку, вам горилки дать, — защебетала шинкарка, звеня монистами и медным крестом, висевшими на полной груди, — простой или оковитой?
— Самой пекельной, запридуху!— пояснил второй.
— Спотыкачу, дядько спотыкайленко, — добавил третий.
Шинкарка метнулась к стойкам, достала требуемое, поставила на стол, сбегала потом за медом, который так и пенился, как сердитый пан, — все это расставила на столе, а потом отошла в сторону и подперла розовую щеку рукою.
— Пейте, паночки, на здоровьечко, да не забывайте вашею милостию Настю кабачную, — прощебетала она и поклонилась.
А нетяга все стоит у печки, все сушит свою лохмотную шапку и искоса поглядывает на кичливых дуков. Те принялись пить — и снова, вопреки народному обычаю, хоть бы один из них предложил бедному оборванцу «меду склянку» либо «горілки чарку».
По лицу нетяги пробежала недобрая улыбка, и он продолжал поглядывать на пирующих. В этих ясных черных глазах было что-то такое, отчего дукам становилось жутко, водка не шла в горло... Злил их этот оборванец своим спокойным взглядом; казалось, что эти глаза, глаза оборванца, смотрят на них так, как иногда глаза большого пана, какого-нибудь ясновельможного князя, смотрят на самого жалкого хлопа. Не вынесли этого дуки, тем более, что и хмель стал уже разбирать их головы.
— Гей, шинкарка Горовая, Настя молодая! — закричал Войтенко, ломаясь и корча из себя великого пана.
— Гей, шинкарко! Нам сладкого меду подливай, а этого казака, пресучьего сына, взашей из хаты выпихай!
— Вон его! Вон! — прикрикнул и Золотаренко.
— Должно быть, он, пресучий сын, по винницам да пивоварням валялся — опалился, ошарпался, ободрался, да теперь к нам пришел добывать, чтоб в другую корчму нести пропивать.