— Дальше, дальше! — И Субханвердизаде в изнеможении закрыл глаза.
— А дальше он сказал, что скитания в горах довели его до полного отчаяния, что переходить то и дело Араке, захлебываясь в волнах, невозможно, что колхозы-совхозы укрепились и крестьяне от них уже не отстанут. И если ты, братец, к тому же проведешь в горах шоссе, то нашему «лесному другу» придется незамедлительно поднять обе руки вверх и сдаться на милость победителей.
— Да ведь татарин расстреляет и его и нас! — бешено взвыл Субханвердизаде.
— Ах, как правдивы твои слова, братец! — восхитился Даг-бек Дагбашев. — Но не исключена возможность, что Зюльмата-то амнистируют, а тебя поставят к стенке.
Субханвердизаде так привык пугать людей, что не допускал мысли, что и его можно одним небрежно брошенным словцом привести в смятение.
— На что же надеется этот длинноусый бродяга?
— А он считает, что у советской власти сердце великодушное. Упаду, дескать, в ноги Демирову, попрошу у партии прощения, может, и сжалится… Сказал еще, что в Иране те самые, ну, толстопузые, непрерывно его обманывают, облапошивают, так лучше уж умереть в родном гнезде, чем нищенствовать на чужбине.
— У-у-у, дурак, безмозглый слизняк! — прорычал Гашем в бессильной ярости.
— Ну, так я ему не мог сказать, — пожал плечами Дагбашев; улыбался он наивно, совсем по-детски. — Я лишь напомнил пословицу: «Разводишь пчел, не жалуйся на укусы, — тебе же доведется облизывать пальчики!»
— А он? — продолжал допрос Субханвердизаде, прикидываясь невозмутимым.
— А он сказал, что терпит все напасти исключительно из-за Гашема, что фотографию Гашема-гаги ему показывали в Иране люди, разговаривавшие на английском языке… И он, значит Зюльмат, поклялся во всем слушаться товарища председателя исполкома.
— Что у тебя за отвратительная манера выражаться! — вспылил Субханвердизаде.
— Каков есть, — мерзко хихикнул Дагбек Дагбашев. — Похоже, что наш «лесной друг» сварит в кипящем котле наши головы, сожрет, обглодает их, а голые сухие черепа наденет на свой дорожный посох и поднимет высоко к небу! — плавно закончил Дагбашев.
Серебристый самовар шумел, плевался крутыми струями пара, подбрасывал дребезжащую крышку. Отправившись на базар, Афруз-баджи забыла о нем, не прикрыла конфоркой трубу.
Не обращая внимания на возмущенно бурлящий самовар, Мамиш и Гюлюш, проснувшись, откинули одеяльца и, с удовольствием болтая в воздухе голыми ножками, мирно беседовали.
— Все-таки мой автомобиль куда лучше твоей куклы! — серьезным тоном заявил мальчик.
Гюлюш не согласилась с таким утверждением, схватила со стула голубоглазую, русоволосую, с неправдоподобно красивым, личиком куклу и осыпала ее жаркими поцелуями.
— Твоя машина ржавая, грязная! — обидчиво выкрикивала она. Моя дочка нарядная, красивая, ласковая!.. Брат презрительно шмыгнул носом.
— Поеду на своей машине по улице, всю тебя вместе с куклой запорошу пылью!
— У моей дочки глазки, а твоя машина слепая, — уколола его самолюбие сестра.
Подумав, Мамиш нашелся:
— Нет, у автомобиля фары!
— Ночью же они не светятся, — рассудительно возразила Гюлюш.
Такого неслыханного поругания парнишка не смог стерпеть и с воплем: «Машина железная, а твоя дура — стеклянная!» — спрыгнул с кровати, вырвал из рук оцепеневшей от неожиданности сестры куклу и со всего размаха ударил ее об пол.
Черепки брызнули во все стороны, а на кровать к Гюлюш упали фарфоровые, бессмысленно нежные, связанные, как теперь оказалось, проволокой глазки ее ненаглядной дочки.
Характером Гюлюш выдалась в Афруз-баджи, — не в отца.
Захлебнувшись рыданиями, она разъяренной кошкой слетела с кровати и вцепилась острыми ноготками в щеки брата.
— Му-уу, ма-ма-ааа! — завыл Мамиш, даже не пытаясь сопротивляться.
Сцепившись клубком, брат и сестра выкатились сперва на терраску, потом по ступенькам во двор, не переставая кусать, царапать и колошматить друг друга.
Хотя Афруз-баджи решительно браковала все товары, после препирательства, обмена взаимными «любезностями» с продавщицами, бешеной тяжбы из-за каждого гривенника ей удалось набить зембиль мясом, маслом, сыром, медом.


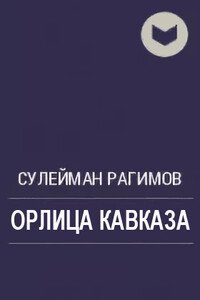


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
