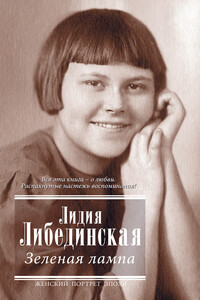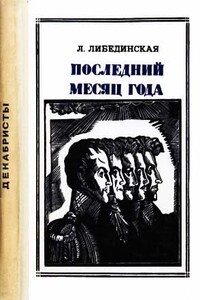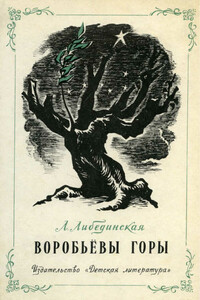Книга была прочтена и высочайше одобрена. Модест Андреевич приглашен на обед, где похвален, а спустя некоторое время торжествовал второе издание. Третье же (для публики первое) было издано после смерти императора. Корф ожидал лавровых венков от куда более широкого круга читателей, но ответом было молчание. Однако история имела продолжение. Книга попала в Лондон, где два презренных отщепенца не случайно и не зря на обложке своего мерзопакостного периодического сборника водрузили некогда медальон с пятью известными висельниками. Корф не ожидал, признаться, что они ответят так быстро — да еще не статьей, а целой книгой, где один из разделов назывался просто и прямо: «Разбор книги Корфа». Первая же фраза, на которую натыкался глаз, спокойно констатировала, что разбираемая книга есть «выражение изумительной бездарности и отвратительного раболепия». Неизвестно в точности, здесь ли именно упал в обморок барон Корф, но известно доподлинно, что при чтении он падал в обморок, звеня орденами, в мундире, который не снимал даже во время послеобеденного отдыха.
Книга, надо сказать, удалась и Герцену и Огареву. Писалась она быстро, на одном негодующем дыхании, и дошла до России великолепно, сотнями экземпляров, доставив огромную радость не только многочисленным россиянам разного возраста и толка, но — что самое, быть может, главное — заслужила счастливое одобрение уцелевших декабристов. Ибо все точно расставляла по местам, хотя мало еще было известно дневников и воспоминаний — они позже стали приходить в Лондон.
Первая вольная типография впервые выпустила на русском языке разнообразные декабристские материалы: воспоминания, дневники, статьи, документы, стихи и прозу, переписку и записи разговоров. Подвижники 14 декабря впервые предстали в своем истинном облике.
Только это все произошло позже, а пока Огареву ввиду отсутствия материалов выпала тяжкая задача. Оттого, может, и не было у книги барона Корфа более внимательного и вдумчивого читателя, чем сорокатрехлетний поэт Огарев, только начинающий в Лондоне деятельность вольного публициста.
Он нашел в книге Корфа неосторожно приведенное автором письмо, позволившее Огареву протянуть чрезвычайно убедительную цепочку доводов для опровержения главной, самой подлой мысли мудрого царедворца: что выступление это — «маскарад распутства, замышляющего преступление» — было случайностью, взрывом мелкой групповой злонамеренности, а не естественным порождением русской истории. Открывало цепочку доводов письмо Александра I, написанное им очень давно, задолго до вступления на престол, в конце екатерининского царствования. Это было письмо человека, обнаружившего — с ужасом и отвращением! — сколь гнилой аппарат получает он в наследство для управления молчащей Россией. Александр писал стародавнему другу своему Кочубею:
«…Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места… В наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления?..»
Поставив письмо это в фокус внимания читателей, Огарев обращался к Корфу:
«Как же господин статс-секретарь не понял из этого письма, что желание отречься от престола не было у Александра ни минутным раздражением, ни глупой романической настроенностью? Перед ним стояла фаланга екатерининских временщиков, развратных грабителей; вслед за ними шли любимцы Павла I, те же типы, но уже утратившие даже внешний лоск образованности. Наследуя престол, Александр должен был наследовать и этих людей; иерархия чина навязывала их ему в советники, в исполнители его намерений. Не минутное раздражение, не романическая настроенность влекли его удалиться, а живое отвращение благородного человека от среды грубой и бесчестной, в которую он, вступая на престол, должен был войти роковым образом».