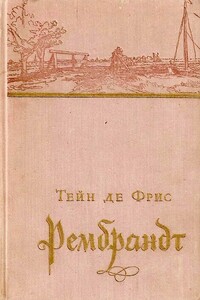Повсюду я заглядывала в черные, опустошенные пещеры комнат. Члены «национал-социалистского движения» и все прочие преступники, называющие себя нашими соотечественниками, поторопились растащить беспризорное имущество. Над всем уже носилась пыль разрухи, запустения. Два-три полицейских из уголовной полиции патрулировали на почти пустой центральной улице, где до войны я часто с удовольствием бродила без определенной цели, околдованная шумной жизнью города, деятельностью сотен спаянных друг с другом людей, теснотой, запахами рыбы и фруктов, всей этой сумятицей, такой приятной, увлекательной и будоражащей. Теперь же я видела перед собой две спины в зеленой форме, слышала грубый стук их подкованных железом сапог о заросшую травой мостовую. И я поспешила уйти отсюда; нервы мои были до того напряжены, что я, кажется, была в состоянии натворить глупостей, затопать ногами, броситься с кулаками на эти проклятые, ненавистные спины.
В одном переулочке, который привел меня на площадь Ватерлоо, я остановилась как вкопанная. Мимо проходила небольшая группа людей. Бедные евреи, я поняла это с первого взгляда. Они шли, согнувшись под тяжестью рюкзаков, скособочась от взваленных на плечи скатанных одеял или волоча в руках чемоданы. Эти несчастные показались мне еще более маленькими и жалкими, чем прочие наши граждане. Среди них был и один ребенок. Он глядел на идущего рядом с ним мужчину, как будто настойчиво спрашивал его о чем-то. Тот ничего не отвечал; его крупная голова клонилась вперед; он как-то вяло и неумело держал руку ребенка в своей. Все, кроме ребенка, шли, спотыкаясь, неуверенно, толкая друг друга. На этом конце площади были только они и я. И вдруг я зажала рукой рот. Меня пронизала догадка. Эти люди отправлялись на регистрацию, чтобы быть потом высланными. Никто из них не оглядывался. Они шли навстречу своей смерти. Догадка эта возникла в мозгу настолько четко, ярко и в то же время все это казалось настолько чудовищным, невероятным, что я позабыла свой собственный страх. Мне хотелось побежать за ними и сказать: «Бегите, спрячьтесь где-нибудь! Не ходите туда! Вы, очевидно, не понимаете, куда и на что вас ведут! Идите в подполье — даже в канализационной трубе лучше, чем в лагере смерти в Польше!..» Я наблюдала, как они скрылись за углом. Исчезли, будто их никогда и не было. Я спрашивала себя, не привиделось ли мне все это. Я была в полном замешательстве. Мне стоило огромного труда тронуться с места. Я вся дрожала, от ног до кончиков волос на голове, меня переполняли ярость, сознание своей вины и ненависть. Затем я глубоко перевела дыхание. Я знала, что должна владеть собой, быть хладнокровной и непоколебимой всегда, что бы там ни было. Я вспомнила о Тане, ради которой приехала сюда. Ведь Таня тоже еврейка и должна будет разделить участь евреев…
Пять минут спустя я была уже на маленькой уличке, в старом, полуразвалившемся доме, где я раньше жила вместе с Таней. Фотографа я застала дома. Он очень удивился, когда я постучалась к нему в дверь и напрямик сказала ему, что жизнь Тани поставлена на карту и что он должен сообщить мне адрес ее друга. Фотограф мрачно поглядел на меня и так громко присвистнул, что я почувствовала, как с таким трудом обретенное мужество вот-вот покинет меня.
— Вы, конечно, слыхали о том, что здесь был совершен налет на Центральное управление регистрации жителей?.. — медленно сказал он наконец и откинул упавший на очки и мешающий ему клок волос. — И он, друг Тани, участвовал в этом нападении. Насколько нам известно, среди арестованных его нет. Но в его доме засели бандиты — фашисты, они встречают и задерживают всякого, кто, ничего не подозревая, позвонит у двери… Если ваша подруга пойдет туда, она наткнется на них…
На мгновение у меня закружилась голова. Затем я медленно, с трудом поднялась с места. Тяжело оперлась о край его рабочего стола. И прошептала:
— А где это?..
— На площади Вестермаркт, — ответил фотограф и назвал номер дома.
Я была уже в дверях. Фотограф побежал за мной, перегнулся через перила. Летя вниз по лестнице, я еще слышала его голос: