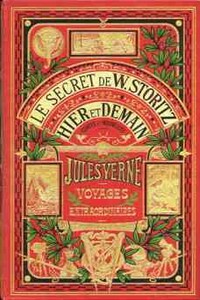— И-и… раз! — кричит первая шеренга.
Вся «коробочка» вмиг головы направо, ест взглядами начальство на трибуне.
Я в правой колонне иду. Согласно строевого устава голову не поворачиваю. Шагаю как зомби, смотрю прямо перед собой. На меня, крайнего, равняется вся шеренга. Чувствую, как что–то длинное мотается под ногами. Шнурки?! Точно! Развязались от хлопков, распустились на обоих ботинках на метровую длину, болтаются плетьми. И в аккурат у самой трибуны! Ни раньше, ни позже! Кто–то наступил на них. Спотыкаюсь и падаю. Сбиваю переднего. Тот — следующего. Задний валится на меня. Вся колонна сбилась, сложилась будто составленные на столе доминушки. Толкни одну — упадут все!
И это — на виду командующего флотом!
Минкин, не ведая, что за его спиной рота устроила «кучу–малу», лихо чеканит шаг. Кортик прижат у левого бедра, правая рука у лакированного козырька фуражки с «золотыми дубовыми листьями». Завидно идёт командир! Ножку тянет по всем правилам строевой подготовки. Не догадывается, почему адмирал Амелько морщит нос и отворачивается.
А мы уже повскакали с асфальта, подстроились под марш, ногу взяли, стучим ботинками: «И раз, и раз… И раз, два, три-и…».
Минкин обернулся, окинул взглядом «коробочку», остался доволен: классно идёт рота. Молодцы! Не напрасно пару месяцев строевую рубили, асфальт подошвами прессовали!
Да-а, уж…
«Сегодня тринадцатое июня, среда, десять часов утра…» — сообщило любимое «Радио России».
Спасибо, друзья! Если бы вы знали, мои дорогие, где я сейчас слушаю ваши замечательные песни, вы бы просто …опупели! Они звучат далеко–далеко, за семьсот километров от Новосибирска, на диком безлюдном берегу Оби под шелест моросящего дождя, наполняя палатку теплом задушевной музыки.
Не хочется собираться в путь в хмурую морось, косой пеленой нависшую над рекой и тайгой. Нет желания выбираться из нагретой постели, когда над ухом звучит раскатистый, берущий за живое, голос Ивана Кучина:
А в таверне тихо плачет скрипка,
Нервы успокаивая мне,
И твоя раскосая улыбка
В бархатном купается вине.
Тоска, грусть, печали — всё теперь позади. Радость души, вырвавшейся в свободный полёт, вытеснила из сердца всё наболевшее там. Некогда мне сегодня грустить, тосковать и печалиться. Впереди долгий, трудный путь к морю Карскому.
К морю стремился в молодости. К нему стремлюсь и сейчас. Кто однажды стёр башмаки на палубе, тот хочет вновь вернуться на неё.
Однако, полежу ещё. Послушаю «Россию». Подумаю…
Что быстрее всего на свете? Мысль!
И вот я вижу себя в твиндеке старого, обшарпанного парохода «Балхаш», битком, «под завязку», набитого тремя тысячами выпускников учебного отряда подводного плавания. Прямо, как «Вильгельм Густлоф», тоже перевозящий трёхтысячный выпуск немецких подводников и потопленный советской подводной лодкой «С-13». Но, слава Богу, сейчас не война, и нас никто не собирается торпедировать.
Однако, и у нас, несмотря на мирное время, есть сомнения в благополучном исходе плавания на этом проржавевшем допотопном корыте. В такую штормягу попали, что и «Вильгельм Густлоф» не позавидовал бы.
Мы вышли из Владивостока пасмурным июньским вечером. Прошли пролив Лаперуза и началось!
Свирепый тайфун «Джина» жестоко швырял и бросал огромное судно.
Огромные волны обрушивались на пароход, швыряли его как спичечный коробок.
С каждым ударом судно встряхивало так, что было непонятно, каким образом ещё держатся заклёпки в корпусе. Через наглухо задраенные переборки просачивалась вода. Временами казалось, что видавшая виды облезлая калоша, изъеденная морской солью, не взберётся на десятиметровую волну. И пучина поглотит нас. Но огромный железный утюг — лапоть, как его называли, упрямо взбирался на водяную кручу, чтобы вновь ринуться вниз. Старик «Балхаш» скрипел, скрежетал, сотрясался под ударами океанских валов. Черпая бортами воду, зарываясь в неё носом по самый полубак, взлетал и падал, подбрасываемый гигантскими волнами–качелями. И всякий раз, как стонущая шпангоутами громадина водоизмещением в шесть с половиной тысяч тонн низвергалась в тартарары, с глухим грохотом ударяясь днищем о пенисто–зелёную гладь очередного вала, что–то обрывалось внутри каждого из нас. Стоило отрвать голову от подушки, как начинало мутить. Вчерашние курсанты, измученные качкой, плашмя валялись на койках, содрогаясь в судорогах рвоты. Подняться, двигаться нет ни сил, ни воли. Есть не хочется. И противная тошнота подкатывает к горлу.