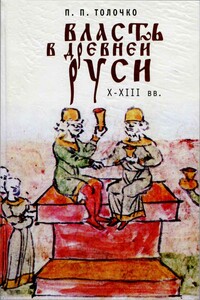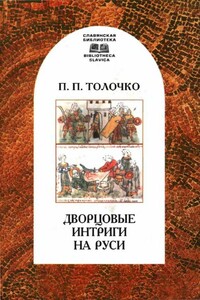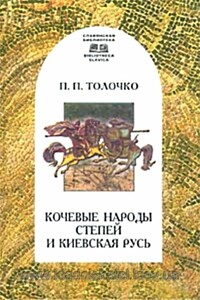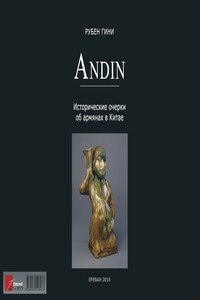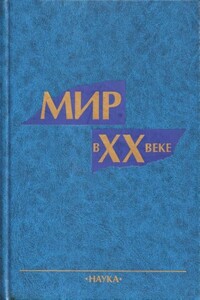Опасность таких реконструкций заключается в том, что исследователи воссоздают не действительную, а во многом воображаемую реальность. Опираться на них серьезные исследователи, разумеется, все равно не будут, а не подготовленного читателя они могут сбить с толку.
И еще одно замечание, касающееся идейного аспекта отечественного летописания. Конечно, летописцы, о чем уже шла речь, не были беспристрастными бытописателями. Их пером управляли не только рассудок, но и чувства. И тем не менее было бы большой ошибкой видеть в них услужливых княжеских чиновников, переписывавших всякий раз историю по заказу и в угоду своих сюзеренов. Сводческая работа вызывалась в первую очередь необходимостью пополнения летописей новыми свидетельствами, почерпнутыми из рассказов очевидцев или записей коллег из других древнерусских центров. Идеологические предпочтения, разумеется, также имели место, но они никогда не приводили к искажению правды предыдущего летописания. Одна из основных ценностей русских летописей и заключается в том, что они дошли до нас не в приглаженном последними сводчиками виде, а в многоголосии их авторов, трудившихся на протяжении более чем трехсот лет в различных городах и землях Руси.
Последнее замечание относится к проблеме соотношения столичного киевского и областного поземельного летописаний. Изучение летописных сводов показывает практическую их однородность, вызванную тем, что, зародившись в Киеве, традиция исторической письменности перенеслась затем в другие русские центры. Нередко это осуществлялось посредством переселения из столицы Руси мудрых киевских книжников. Среди них можно назвать Добрыню в Новгороде, епископа Сильвестра в Переяславле, Кузьмище Киянина и епископа Симона во Владимиро-Суздальской земле, Тимофея в Галичине и Новгороде.
Определяющее влияние на областное летописание оказала «Повесть временных лет» Нестора. От нее удельные летописцы унаследовали прогрессивную идею народного и государственного единства, которую утверждали в своих хрониках. Характерно, что они, сосредоточиваясь в XII–XIII вв. все больше на событиях в своих землях, одновременно внимательно отслеживали то, что происходило в Киеве, и старательно вписывали в свои хроники известия о нем. Этим летописцы напоминали своих удельных властителей, которые, с одной стороны, фрондировали с центральной великокняжеской властью, а с другой — жили заветной мечтой занять киевский стол и поэтому принимали активное участие в судьбе древней столицы Руси.
А
Абрамович Д. И., филолог 51, 63.
Авель, библ. 192.
Авдей, каменных дел мастер 258.
Агафья, жена Олега Святославича 147.
Адрианова-Перетц В. П., филолог 122, 126.
Алекса, городник волынский 265–266.
Алексей IV Ангел (Александр), имп. византийский 185–186.
Александр, имп. византийский 15.
Александр IV, папа римский 256.
Александр (Олександр) Всеволодич, князь белзский, сын Всеволода Мстиславича 234–235, 239–240.
Александр Ярославич (Невский), кн. новгородский, сын Ярослава Всеволодича 253.
Александр Попович, предп. участник Калкской битвы 166.
Алгуй, хан ордынский 256.
Алешковский М. X., археолог, историк 75, 164, 186.
Амбал (Анбал), ключник, убийца кн. Андрея Боголюбского 123.
Анастас Корсунянин, настоятель Десятинной церкви 28–29, 31, 44.
Андрей, апостол 16, 22–23, 58–59.
Андрей, боярин, дворский галицкий 225, 250–252.
Андрей, наместник кременецкий 256.
Андрей, кн. галицкий, король венгерский 231–233, 240–241, 244.
Андрей Владимирович, кн. владимиро-волынский, переяславльский, сын Владимира Мономаха 91, 101–102, 104–105.
Андрей Юрьевич (Боголюбский), кн. суздальский, сын Юрия Владимировича 110, 112–113, 117–127, 141, 155, 160, 197, 202, 204–210, 217, 219–220, 257.
Андроник I Комнен, виз. император 153.
Андриан, епископ белгородский и юрьевский 129–130.
Анкюлина, св. Великомученица 132, 142.
Анкюндин, архимандрит Киево-Печерского монастыря 168.
Анна, византийская принцесса, жена Владимира Святославича 28.
Анна, жена вел. кн. Рюрика Ростиславича 140.
Анна (Романова), жена кн. Романа Мстиславича 225, 229–230, 271.
Анна, дочь Мстислава Удалого, жена Данила Галицкого 234, 236.