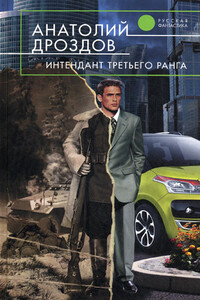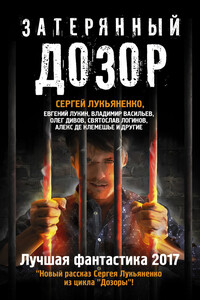В сторонке чёрные опирались на заступы и курили кас, завёрнутый в сухие листья. Туземцы блаженствовали от дурмана; их мокрые улыбки то и дело сверкали оскалом.
Вот-вот должен был обрушиться ливень. Кто не бедовал под тропическим дождём, тот не поймёт, до чего хочется вовремя укрыться от потоков. Но Кир читал не торопясь. Обряд должен быть исполнен lege artis[7]. Яша не заслужил того, чтобы его зарыли наспех.
Под тревожный шум деревьев Кир говорил навстречу ветру древние слова:
— Да будет благословенно, и восхвалено, и чествуемо, и возвеличено, и превознесено, и почтено, и возвышено, и прославляемо имя Пресвятого, благословен Он…
Защёлкали затворы; стволы поднялись к небосводу, полыхающему молниями. Командующий батальоном штандарт-гауптман отдал честь, все последовали его примеру. Белый свёрток на верёвках опустился в могилу; грянули выстрелы.
«Боже, — молился про себя Кир, нажимая на спусковой крючок «парабеллума», — только бы дослужить и сесть на пароход. Я пять лет не был дома, не слышал родных голосов. Я русский язык стал забывать. Я столько людей убил, что сердце шерстью обросло. Господи, дай мне вернуться домой!»
Шлем Локшина лежал посередине стола. Свет лампы отражался в латунной эмблеме — «лев с ошейником, цепью и мечом в правой передней лапе» — и буквах MFRL, означавших «Наёмный фузилёрный полк Лафора».
Потом шлем положат на могилу, по обычаю. Пока он обозначал того, кого нет — и больше никогда не будет за столом.
Рядом стоял стакан с белёсым, мутным самогоном, накрытый куском пресной лепёшки. «Бронф ун бройд[8], — сказал бы Яша, — вот и сказочке конец».
— Хлеба хочу, настоящего. — Котельников с ненавистью взирал на безвкусную выпечку. — Сил нет, надоела негритянская маца.
Дождь прошёл стороной, едва покрапав на лагерь наёмников. В воздухе скопилось тошнотворное удушье, которое Рите-артиллерист называл «липкая смерть». Чтобы стало ещё хуже, принесли две бутыли ямсового первача — их следовало выглушить, иначе это не поминки.
Закрыв глаза, Кир постарался представить семейный стол в Андреевке. Все рядом — Машутка, Лизанька, Дима и Евгеша. Отец спрашивает маму: «Ну-с, голубушка, чем нас сегодня попотчуют?» Запах горячего, свежего хлеба…
— Львы Лафора! — громко спугнул его грёзы гауптман. — Давайте нынче без чинов — перед костлявой все равны… Мы проводили нашего Яшу — тело в яму, душу в небо. Настоящий русский офицер. Я знал его с четырнадцатого года. Он любил Родину, водку и женщин. Помянем! Земля ему пухом.
Пойло хлестнуло в горло, опалило. Рот наполнился щиплющим кислым привкусом.
В душном, спёртом воздухе палатки зудели крупные мухи — величиной со шмеля. Противный звук вьющихся над головами насекомых понемногу выводил Кира из себя.
— Ма-ца… — Сяо задумчиво нахмурился. — Ведь название хлеба у малашиков другое.
«Спросите Яшу», — чуть не вырвалось у Кира. Он смолчал, подавленный внезапным осознанием того, что больше не встретит весёлого приятеля, не услышит его голоса, не увидит лица. Никогда.
Нет человека. Только холмик ржавой земли с пробковым шлемом наверху.
Батальон уйдёт на юг, к Гвинейскому заливу. Будет пёстрый и шумный Манджал, будет прощальный парад. Будет гудок парохода и тающий на горизонте порт, а Яшка останется навеки на чужбине.
Когда-нибудь малашики распашут могилы пришельцев. Ни следа.
«Со святыми упокой… — про себя мучительно и горько просил Кир, с усилием вспоминая слова. — Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…»
Только не здесь умирать. Только не в эту землю. Хоть ногтями цепляясь, хоть тенью, но возвратиться домой!
— Интересно, а Пасху мы справим? — завёлся Котельников.
Кира нехорошо дёрнуло. Вспомнились камеи Лок-шина и потёртый на сгибах псалом — мамино благословение, её рукою переписанное.
Она хотела дать «Живые помощи» на пояске: «От зла оберегает». Он засмущался: «Маменька, это Европа! Как я буду выглядеть там… с пояском!»
— Да. Страусиным яйцом похристосуемся.
— Вечно ты язвишь, Артанов.
— Какая Пасха, Анатоль! Тут Африка, сюда Христос не дошёл. И время сдвинулось, ты понимаешь? Всё сдвинулось.