Как это совмещалось с его глубоким христианством, трудно объяснить. Он же всю жизнь ходил на мессу, каждое утро, в том числе в “красной Москве”. Пока не закрыли собор Святого Людовика на Малой Лубянке, Пьер был его верным прихожанином, а потом стал посещать православные храмы. И впоследствии очень жалел, что наши католики перешли с латыни на французский язык. Вернувшись на родину, он до конца дней ездил через весь Париж, чтобы слушать латинскую мессу.
Объяснение у меня одно-единственное: ему показалось, что апостольские времена вернулись. Что идеология большевиков, марксизм – это второстепенно. А первостепенно то, что комиссар и домработница получают один и тот же паёк. Для него это было как начало “Деяний апостолов” – любимая книга. Он считал, что все революционные эксцессы – явление временное, атеистический радикализм будет слабеть, неплюевский идеал абсолютного равенства окажется сильнее классовой борьбы.
Ну, довольно быстро пришлось констатировать, что это не совсем так. И окончательно он разочаровался в революции, когда начался нэп. Пьера поражал и отталкивал цинизм политического выбора: мы сокрушили прошлое, а теперь возьмём от капитализма и деньги, и неравенство, и вообще все ужасы вашего общества.
Между прочим, был товарищеский суд над ним. Но судили его не за критику ленинской политики, а за религиозные взгляды. Паскаля вызвали секретарь ЦК Елена Стасова и будущая жертва сталинской политики Николай Бухарин; Стасова представляла сторону обвинения, более либеральный Бухарин – сторону защиты.
Она говорила:
– Товарищ Паскаль, мы знаем, что вы каждый день бываете на мессе. Как вы, коммунист, марксист, можете каждое утро ходить на службу к этим мракобесам. Что за поповщина!
Бухарин что-то вяло бормотал в его оправдание. А Паскаль спокойно отвечал:
– Если речь идёт об экономике, я марксист. Я принимаю “Капитал” Карла Маркса. Но если речь идёт о философии, то я томист. Фома Аквинский – мой любимый философ.
Видимо, они решили, что он немножко чокнутый, неопасный чудак. И оставили его в покое, запретив лишь руководить большевистской ячейкой. Но он больше не мог свободно ходить в Кремль. А раньше, пока у него была аккредитация, он по вечерам гулял там же, где Ленин под ручку с женой. Впрочем, много что было раньше. Раньше он вместе с Чичериным ездил на Генуэзскую конференцию, а теперь с трудом нашёл убежище в Институте Маркса, Энгельса, Ленина. И то лишь потому, что Луначарский купил архив нашего радикала Бабёфа, надо было его разбирать, и это дело поручили Пьеру. Он честно выполнял свою работу, но она его мало интересовала. Ну, Бабёф, ну, типичные революционные рассуждения, стоило ради этого менять страну.
И тут он открыл для себя Аввакума. Случайно прочёл – и влюбился. Это стало его третьей русской влюблённостью. Первая – язык. Вторая – революция. А третья – страстный протопоп.
И вместо радикального Бабёфа Пётр Карлович стал заниматься опальным проповедником, впрочем, тоже в некотором смысле революционером. Трудно представить фигуру, более подходящую для Паскаля, чем этот великий старовер. Бунтарь и консерватор, сокрушитель устоев и строитель Царства Божьего. Влюбившись в нового героя, Пьер начал изучать архивы, прочёл всё, что только мог, поехал по раскольничьим скитам Заволжья…
Это спасало его от депрессии: он всё яснее понимал, что большевистская революция дала не те плоды, о которых он мечтал, что это – преданная революция. Язвительно отзывался об Анри Барбюсе, которого обхаживала власть. С ужасом наблюдал за участью знакомых, гибнущих под гнётом большевистской Директории. Возможно, он не принял бы спасительную французскую визу (и отдельную визу на выезд из СССР), которую для него выбил Эдуар Эррио, французский левый премьер-министр. Но его жена, Женни Русакова, как следует струхнула, надавила на мужа, так что они двинулись в Париж. Можно сказать, в последнюю минуту: уже начинались чистки.
Во Франции ему были рады далеко не все, с распростёртыми объятиями не встретили. Прошло четыре года, прежде чем он смог вернуться на государственную службу, то есть начать преподавать в университете; ему предстояло опровергнуть обвинения. Помог генерал Гуро, военный губернатор Парижа, закрывший “дело Паскаля” на том основании, что Франция и Советский Союз никогда не находились в состоянии объявленной войны, а значит, никакой измены не было.
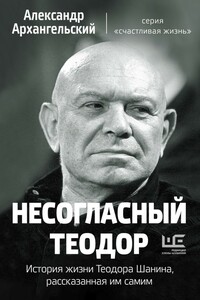

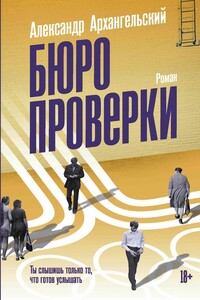
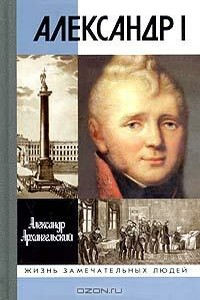
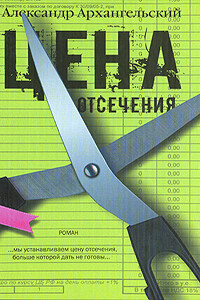
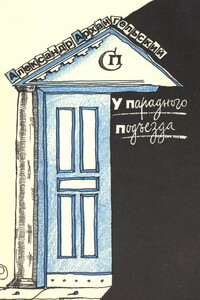


![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)
