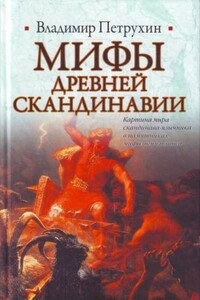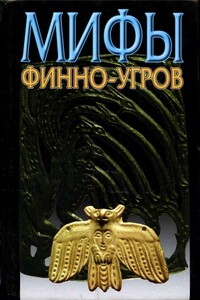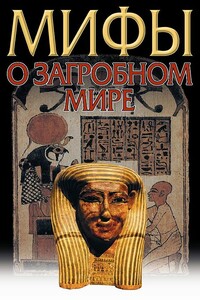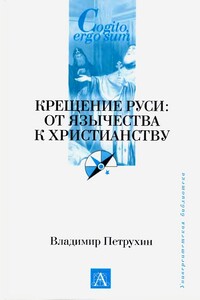С развитием исторической науки в эпоху Ренессанса, естественно, зарождался и скептицизм в отношении фальсификатов: разные авторы отмечали, что славяне неизвестны источникам времени Александра (эпохи эллинизма). Уже упомянутый Юрий Крижанич призывал не верить постыдным «басням» «придворных баятелей» о скифском происхождении славян, об Александровой грамоте и Гостомысле, «не искать славы в лживых и всеми народами осмеянных и оплеванных баснях о роде Августа и не называть себя потомком монахини Сильвии и распутной богини Афродиты» (Крижанич 1997. С. 373–380). Традиция критического отношения к текстам эпохи Ренессанса — позднего средневековья была продолжена первым российским историком В. Н. Татищевым, характеризовавшим Александрову грамоту как «подложную» (Татищев, т. 1. С. 311)[27]. Но поиски «славы» в «лживых баснях» продолжались, особенно в официозной историографии начиная с Патриаршего летописного свода 1652 г. и Синопсиса 1674 г. и, конечно, в последующих фальсификатах — от текстов Сулакадзева до «Влесовой книги» (ср.: Буланин, Турилов 1998. С. 446; Мыльников 1996. С. 93–94).
Синопсис имел особое значение для последующей российской историографии: его составитель Иннокентий Гизель воспринял польскую традицию, возводившую славян к сарматам с соответствующими конструкциями о «народе роксоланстем» — славеноросском; прародителем же славеноросского — московского народа (праотцем «всей Руси») считался библейский Мосох (построения о Роксолане и Мосохе заимствованы в польской историографии — ср.: Карнаухов 2000; Гизель использовал и Густынскую летопись). Эти конструкции были достаточно бессвязными, обнаруживающими противоречия в претензиях Польши на всю «Сарматию» от Балтийского до Черного моря и Московского государства на Восточную Европу. Москва претендовала на роль древнего центра славянского мира (Синопсис: 59–60).
Естественно, Иннокентий Гизель, архимандрит Киево-Печерской лавры, не мог проигнорировать роль Киева и мотивы начального летописания, зародившегося в его монастыре на рубеже XI и XII вв. Специальные разделы он посвятил рассказу «о преславном верховном и всего народа российского главном граде Киеве» (Синопсис: 12). Гизель привел летописную легенду о благословении Андреем Первозванным киевских гор, о поселении на горах Кия, Щека, Хорива и сестры их Лыбеди, создавших там города; дал и точную дату основания Киева — 431 г.
Гизель следует ПВЛ, за исключением даты и характерной перемены этнической атрибуции основателей Киева: в ПВЛ они названы полянами, Гизель же именует их князьями «российскими» или россами (Синопсис: 66). Здесь составитель Синопсиса следует не столько конструкциям Начальной летописи (летописец начала XII в. констатировал, что поляне в его времена зовутся русью: см. об этом далее — в главе 6), сколько польской средневековой историографии. Восточные славяне в польской историографии, как уже говорилось, считались потомками Руса, брата Леха и Чеха. Ян Длугош в Хронике второй половины XV в. изобразил Руса потомком Леха, что давало Польше «историческое» право главенства в Восточной Европе, особенно в Киеве, заселенном полянами, которых польский хронист отождествлял с поляками (Флоря 1990; Щавелева 2004. С. 218).
Гизель констатирует иную историческую реальность: Киевом правят московские — российские государи, наследуя власть древнерусских князей, начиная с Игоря Рюриковича. Легенду о происхождении Рюрика, использованную Гизелем в редакции «Сказания о владимирских князьях», этот автор также трансформировал по западному образцу, настаивая на балтийско-славянском происхождении варягов[28]. Эта конструкция привела, как обычно, к невразумительному изложению истории: «иные» (не киевские, а новгородские) россы по совету Гостомысла призывают варяжских (славянских по языку) князей, но в изложении Гизеля сохраняется их атрибуция, характерная для русской книжности XVI в.: три князя происходят «от Немец» (Синопсис: 68), но не от славян.
Синопсис, остававшийся учебником русской истории на протяжении всего XVIII в., как и польская историография, оказывал сильнейшее влияние на развитие российской историографии и в период становления российской исторической науки, связанный с петровскими реформами и приглашением в Санкт-Петербург из Пруссии немецких ученых Г. З. Байера и Г. Ф. Миллера. Байер, обратившийся к исследованию истоков русской исторической традиции — варяжской легенде Начальной летописи, писал, что «баснь» о происхождении Рюрика от Августа была «достойна тогдашнего (средневекового) ума».