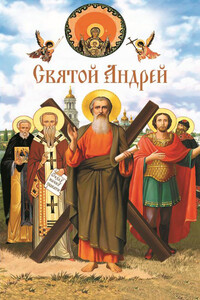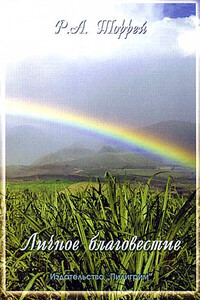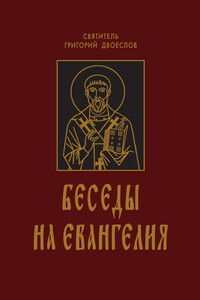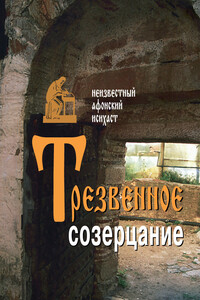. После взятия Константинополя турками к этому мнению прибавилось еще другое, что греки все уклонились в магометанство, что поэтому не должно»принимать поставления ни на митрополию, ни вообще на владычество от цареградского патриарха, как живущего в области безбожных турков поганого царя»; так что инок Максим Грек, проживавший в России, должен был писать особые по этому поводу статьи
[401]. По контрасту с греками, русские стали думать о себе как хранителях истинного православия, и о своем государе как прямом наследнике византийских императоров. Рядом с этим самомнением русских развивались материальное благосостояние Москвы и политическая сила московского царя и польского короля. Патриарх же с падения Константинополя все более и более беднел и слабел; он уже стал нуждаться в сторонней правительственной и экономической поддержке, поэтому обращался с просьбами к России или через своих послов, или сам лично. Естественно, что при таком положении польский король и московский царь должны были свысока смотреть на константинопольского патриарха, заботиться о возвышении своего митрополита и действовать в этом деле смелее, а патриарх не имел сил проявиться и должен был уступать их желаниям и требованиям. Таким образом открылось, что когда присланный патриархом на киевскую митрополию митрополит Спиридон (1476 г.) не был принят там, патриарх не мог настоять на воем и должен был прислать»благословенный лист»избранному в России Симеону так же, как и его преемникам
[402]. А когда на соборе 1495 года был избран киевским митрополитом Макарий, патриарх позволил и впредь выбирать митрополита на Руси, но только требовал для его поставления получать он него благословение
[403]. Такой обычай с этого времени и установился в южной митрополии. По отношению к северной митрополии при митрополите Ионе патриарх Геннадий сделал еще большую уступку: обязанный материальными пожертвованиями со стороны московского митрополита и великого князя, он дозволил на будущее время выбирать и поставлять северо–восточного митрополита на Руси собором местных иерархов без предварительного сношения с ним. В таком духе русские епископы на Московском соборе 1459 года постановили: по смерти Ионы повиноваться только тому митрополиту, который по правилам святых апостолов и отцов будет поставлен в соборной церкви на Москве у гроба святого чудотворца Петра
[404]; при выборе преемника святого Ионы (Феодосия) так и было сделано.
Итак, к концу XV века константинопольский патриарх поступился своим правом избрания митрополитов на Русь, которым так дорожил в прежнее время. Рядом с этим шло ослабление и других его прав. В XIII–XIV веках он еще приглашает к себе на соборы наших митрополитов или их уполномоченных [405], принимает жалобы на митрополитов [406], наряжает суд над ними (Романом, Алексием, Пименом), иногда вызывает на суд к себе (Киприана) и низлагает, награждает русских епископов архиепископским саном (Дионисия Суздальского и Феодора Ростовского); рассылает грамоты по различным вопросам в пределы русской митрополии; русские сами обращаются к нему нередко за разрешением недоумений; митрополиты являются иногда на патриарших соборах (митрополит Максим, Киприан); некоторые монастыри русские делаются ставропигиальными патриаршими (московский Симонов). Но все это было или результатом неурядиц в русской митрополии, или традиционным остатком старинного порядка. Поэтому, когда во 2–й половине XV века северо–восточная митрополия освободилась от иерархических смут и когда там уже подозрительно стали смотреть на патриарха, права его над нею автоматически перестали существовать. Место его занял собор русских иерархов: он стал не только избирать и поставлять, но и судить московского митрополита [407]; во всем же прочем этот последний стал полновластным главой Русской Церкви. Осталась лишь номинальная зависимость его от константинопольского патриарха, которую порвать предстояло следующему периоду. И тотлько в южной части митрополии уцелела некоторая часть патриарших прав. Там митрополит испрашивал себе благословения у патриарха, сносился с ним по делам церковным, принимал от него грамоты, подвергался его суду и иногда низлагался им. Это обусловливалось, с одной стороны, борьбой против католической пропаганды и светских притязаний на церковные дела, так же как и иерархическими неурядицами, побуждавшими искать опоры в личности патриарха, с другой — бедностью южнорусских епархий, побуждавших их мало благотворить в пользу константинопольской кафедры, а вместе с тем делавшей патриарха менее обязанным пред ними и менее уступчивым, чем перед богатой московской митрополией.