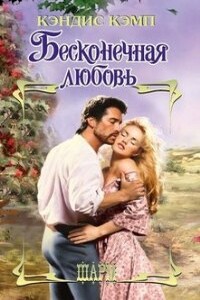— А вы еще говорили, что я такой завидный жених в городе, — пошутил он.
— Тетя Ораделли — исключение из общих правил. Во-первых, у нее нет дочери на выданье. Во-вторых, она жена банкира…
— А-а, теперь все становится ясно.
— Также она — опора и поддержка Первой Баптистской Церкви.
— Которая владеет прибрежной собственностью? Мм-м, кажется, я понимаю все больше и больше.
— А к этому еще прибавьте мою дерзость, мое непослушание и…
Джонатан, запрокинув голову, громко расхохотался:
— Вы? Мисс Миллисент Хэйз, само достоинство и порядочность? Вы в глазах вашей тети дерзки и непослушны?
— Нет ничего смешного, — строго заметила Миллисент, но потом сама не сдержалась и рассмеялась.
— Вы должны рассказать мне, в каких грехах вас обвиняют.
— Я приютила Опал — это раз, а когда тетушка Ораделли объясняла, как это непорядочно и неприлично и говорила, что нужно избавиться от нее, я отказалась. Еще ей не нравятся мои частые встречи с Бетси.
— Бетси! — Джонатан нахмурил брови. — Опал — одно дело; меня возмущает их отношение, но совершенно ясно, что большинство дам точно так же отнеслись бы к ней. Но десятилетняя девочка? Она-то как может «дурно влиять» на других?
— О, нет, речь не о дурном влиянии. Просто это дает повод для разговоров. Будут думать, что… ну, вы знаете… — Миллисент опустила глаза, а голос ее смущенно затих.
— Нет, не знаю. Что они будут думать?
Она удивленно посмотрела на него и увидела, что его глаза смеются.
— Ах, вы! — Она покраснела. — Прекрасно знаете, что они подумают о нас с вами.
— Скажите же. — Его палец нежно заскользил по ее ладони.
Миллисент вздрогнула, будто молния пронзила ее руку.
— Перестаньте! Вы пытаетесь меня скомпрометировать.
— Нет, я пытаюсь сдержаться, чтобы не поцеловать вас прямо здесь, на виду у всех.
Миллисент казалось, что стало нечем дышать. Она посмотрела в его глаза, которые уже не смеялись, а стали вдруг сияющими и зовущими. Она не могла произнести в ответ ни слова.
— А когда вы смотрите на меня вот так, как сейчас, сделать это становится все труднее, — прошептал он.
Миллисент перевела взгляд. Она чувствовала себя так, будто внутри плавился воск.
— Нет, не отводите глаз, — запротестовал он. — Я достаточно порочен, чтобы получать удовольствие от такой пытки.
— Вы дразните меня! Я… я не знаю, что отвечать…
— Может, я дразню себя… — Он понизил голос. — Я — не настоящий джентльмен. И не умею одновременно и желать женщину, и искусно скрывать свою страсть. Мне нравится быть рядом с вами, и даже нравится испытывать эту страсть. Но иногда мне бывает очень трудно сохранять спокойствие, потому что желание слишком сильно…
Миллисент судорожно переводила дыхание.
— Я никогда не встречала мужчину, который разговаривал бы так, как вы. Думаю, это, наверно, неуважение ко мне…
— Нет, ошибаетесь! Ни в коем случае! Почему нельзя уважать женщину, которая так желанна? А неужели то, что ты говоришь ей правду, не доказывает этого уважения?
— Я… Я не знаю. И совсем запуталась… Вы владеете даром убеждения. — Она улыбнулась, и на ее щеках снова заиграли ямочки. — Мне кажется, из-за этого вы опасны. Я не могу чувствовать себя спокойно рядом с вами.
Танец кончился, и Джонатан неохотно отпустил ее.
— Можно пригласить вас на следующий?
Хотелось ответить, что она готова танцевать с ним весь вечер, но, естественно, это было невозможно. Нельзя танцевать с ним более двух, может быть, трех танцев. Иначе о них тут же заговорят все. И будет скандал. Милли неохотно произнесла:
— Возможно, еще один — попозже.
— Тогда, может быть, вам принести пунша?
— Да, было бы прекрасно.
Они вместе направились к буфету, взяли два бокала пунша и, оживленно болтая, начали медленно потягивать напиток. Миллисент казалось, что все до единого в зале наблюдают за ними. Конечно же, то, что любой житель Эмметсвилла считал своим долгом быть в курсе дел всех и каждого, раздражало. Милли представила, как все они рассядутся, темными кружками и с карандашом в руках примутся вычислять, сколько раз та или иная дама протанцует с тем или иным мужчиной.
Миллисент знала, что ее мысли посчитали бы здесь крамолой. Она всю жизнь жила по незыблемым законам общественного поведения и практически всегда следовала им беспрекословно. Но теперь она пересмотрела эти заповеди и усомнилась в их ценности. И с какой стати тетушка Ораделли взяла на себя право диктовать всем, как следует или не следует поступать? Неужели кроме нее не было никаких других столпов нравственности?