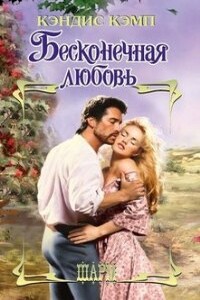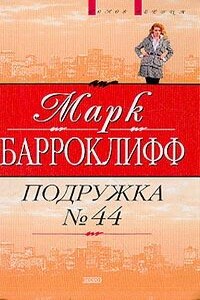— Это безумие!
Он опять повернулся к ней.
— Но почему не найти золотую середину? Мы будем жить совсем рядом, ты будешь всегда приходить к нему. Да черт, он сможет жить с нами! Или я и Бетси переедем к вам, если тебе и ему будет трудно сменить дом.
— Алан не будет жить с нами. Он почувствует себя лишним. Да и Бетси не нужно расти рядом с инвалидом.
— «Алан!» «Бетси!» Проклятье, а что же мы? Разве ничего не значат твои страдания? Мои? Или мы — это ничто? Почему всегда Алан, Алан, Алан? Почему только он важен?
— Я обещала родителям, что буду ухаживать за братом. Когда с ним это случилось, моя мать совсем сдала. Она никогда не была сильным человеком, а тут потянулись долгие месяцы болезни Алана, уход за ним, забота о нем, страх за него… Это ее убило. Она умерла меньше чем через год. И все, о чем она просила меня, умирая — это не бросать Алана.
Голос Милли задрожал, а в глазах появились слезы. Она закрыла глаза, вновь увидев, пережив те долгие, жуткие ночи, когда они с матерью сидели у постели Алана, следя за его слабым дыханием, прислушиваясь к болезненным Стонам.
Иногда он переставал дышать, и они вскакивали, уверенные, что это конец. Миллисент тогда почти постоянно молилась, обещая Господу все на свете за сохранение брата, кляла себя, осознавая, что в случившемся была и ее вина.
— Я поклялась Господу, что ради брата отдам свою жизнь. Я обещала, что если только Бог вернет мне Алана, я всегда буду заботиться о нем.
— Миллисент… все в таком состоянии обещают то же самое! Я не смогу вспомнить, что я обещал Богу за возвращение Элизабет. Никто не ждет от тебя, что ты будешь держать обещание, данное в состоянии страха и горя. Неужели твой Бог действительно требует от тебя принести в жертву свою жизнь ради его помощи? И это милосердие?
— Ты не понимаешь!
— Я понимаю, что ты мучаешь себя зря! Что ты лишаешь себя счастья из-за глупых обещаний, выполнения которых от тебя не ждет никто, и особенно добрый и милосердный Бог!
— Я обещала это матери, когда она лежала на смертном одре! И за это я отвечаю. Я должна посвятить этому жизнь. Я не смогу просто взять все и отодвинуть в сторону…
— Почему? Почему ты, как проклятая, считаешь себя обязанной принести жизнь в жертву брату? Ты должна отвечать за себя. А Алан — за себя.
— Нет, я должна отвечать за него! — закричала она, вся как-то съежившись от противоречивых чувств, раздиравших ее сердце.
— Почему? Черт возьми, Милли, объясни мне, почему?
— Потому что это была моя вина! — крикнула она. Голос ее замер, и воцарилось глухое и непроницаемое, как стена, молчание. Джонатан, ничего не понимая, смотрел на нее. Наконец он произнес:
— Твоя вина? Как это может быть твоей виной?
— Я сделала то, что… Почти равносильно, если бы я столкнула его с бортика!
Слова, как оружейные выстрелы, срывались с ее губ, будто освобождаясь из многолетнего мучительного плена молчания. Никогда раньше она их не произносила, едва ли даже мысленно облекала их в какие-то фразы; она только ощущала глубоко внутри этот непоправимый, постоянно напоминающий о себе груз вины и ответственности. Когда Милли снова заговорила, голос ее дрожал, она всхлипывала, но уже не могла остановить льющийся поток слов.
— Я сделала это. Они велели мне смотреть за ним. Мне всегда нужно было смотреть за ним. Заботиться о нем. С тех пор, как я себя помню. Я — его старшая сестра. Он любил меня, он постоянно бегал за мной, как хвостик, хотел везде быть со мной. Иногда я ненавидела его за это. — При каждом слове она ударяла кулаком по ладони. — Я терпеть не могла смотреть за ним!
Джонатан молчал и сдерживал себя, чтобы не обнять ее. Она была такой нервно-возбужденной и напряженной, как натянутая струна, что могла взорваться при малейшем прикосновении. Он ждал и смотрел на нее. Его лицо выражало понимание и боль.
— Мне надоело повсюду брать его с собой. Они говорили мне: «А теперь посмотри за Аланом, дорогая! Ты же знаешь, какие эти мальчишки!» Но почему он сам не мог о себе позаботиться? — От старых воспоминаний ее голос зазвенел, будто она переживала все вновь. Глаза казались невидящими, как у всех, перед чьим взором сменяются картины прошлого.