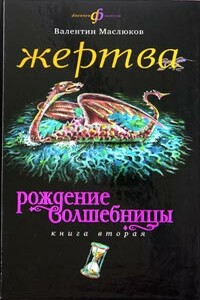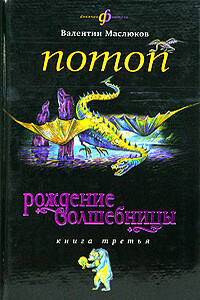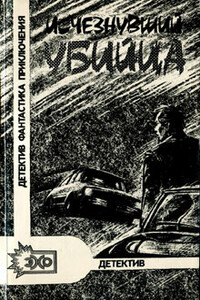Прошел слух, что наследник престола Юлий, пасынок Милицы, отравлен. Все угрюмо молчали. Золотинка остро переживала крушение надежд. Все стало так нехорошо и неладно, что она и слышать больше не хотела о столичных коловратностях. Тяжело это было держать на душе. Потом распространилась глухая молва, что Юлий жив и удален в изгнание. Она опять встрепенулась. Все остальное оставалось дурно: летят головы вельмож и трещат кости простонародья. Но это почему-то уже не мешало ощущению вернувшейся радости.
Золотинка взрослела и задумывалась. Существо впечатлительное и восприимчивое, она подозревала в себе нечто темное. Бурно вскипающая злость заставляла ее запальчиво огрызаться на глупые выходки мальчишек; а то пускала в ход руки. Когда же дралась, то приходила в неистовство. За которым и сама наблюдала как-то со стороны, вчуже. Оставалось только удивляться. Два-три жалостливых слова, сладостный разлив песни, доносимый дуновением ветра из кабака, пробуждали в ней нечто пронзительное, что сжимало горло, а глаза туманились.
Эту слезливость и этот смех, как и прошлую ярость, и прежде бывшую обидчивость, и стойкость, и слабость — все это нельзя было сложить вместе так, чтобы оно не развалилось. И получалось, что у нее никакого характера вовсе нет. В сборнике избранных речений древних и новых мыслителей, который назывался «Муравейник», она наткнулась на высказывание некоего Ва Кана, проницательного мудреца, который за два тысячелетия до появления Золотинки — вон еще когда! — мрачно смотрел на ее будущность. Он писал: «Человек, живущий бесцельно и бездумно, почти всегда не имеет и характера. Когда бы он обладал характером, то непременно почувствовал бы, как необходимы ему большие цели».
Слова эти из глубины веков звучали приговором.
И тоже вот в занимательных повестях, которые Поплева отыскал в большом количестве у городского судьи Жекулы, там было не так. Путешествующие за тридевять земель в поисках истины монахи; всегда готовые разить направо и налево за малейшую поруху чести витязи; добронравные девы, которые неколебимо хранили верность каждому из последовательно сменявшихся любовников и мужей… Все они обладали характером. Монахи отличались праведностью и любознательностью, сопутствующие им в странствиях послушники были пройдошливы и ловки (чем и возмещался недостаток столь необходимых в путешествиях качеств у самих монахов). Витязи неизменно выказывали мужественность и пылкость, а женственные девы, целомудренно потупив взор, ступали той легкой божественной поступью, что позволяла им не касаться грешной земли. Никто не покушался на чужой характер, каждый довольствовался своим. Именно поэтому каждый уже с рождения сознавал свое нарочное предназначение и безоглядно ему повиновался. Для особо непонятливых существовали знамения или даже полноразмерные природные бедствия, которые при необходимости можно было повторять по нескольку раз кряду для того, чтобы выгнать упрямого монаха-домоседа в указанный ему путь.
Не так было у Золотинки: она не знала своего предназначения.
Его увезли в закрытом, без окон, возке со скрипучими тормозами. Юлий зарылся в солому, но все равно было зябко, от темноты и неизвестности тоскливо. Есть и пить подавали на остановках прямо в возок, оставляя дверь открытой, чтобы наследник престола не пронес кусок мимо рта. Его не выпускали во двор и на ночь. Кожаные стенки кузова покрывались изнутри осклизлым слоем инея. А утром, когда пригревало солнце, в этой темной тесной утробе сочилась холодная влага и капало. Юлий ни на что не жаловался, ожидая худшего.
Возок остановился в неурочный час, забухшая в пазах дверца задергалась, и открылся вид на черный притихший лес, где на голых ветвях неподвижно стыли последние мерзлые листья. Разбитной детина с пышными рыжими висками до самых скул сдернул шапку и сообщил, что великая государыня Милица назначила наследнику в удел Долгий остров.
Остров стоял на болоте. Унылый всхолмленный берег, покрытый прореженным еловым лесом, среди топкой равнины. И кое-где в отдалении, словно поднятая ветром рябь, чахлые поросли осины. Пробираться к острову нужно было тропой, которая шла по узкой земляной насыпи. Потом начались низкие, поставленные на сваи мостки, иногда очень длинные, на десятки и сотни саженей. Они перемежались скверными, хлипкими гатями. Незакрепленные бревна хлюпали вонючей грязью, которую не брал мороз.