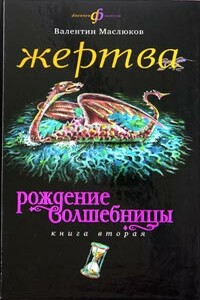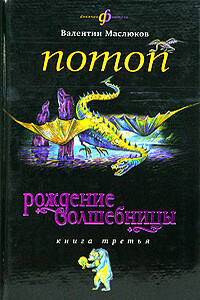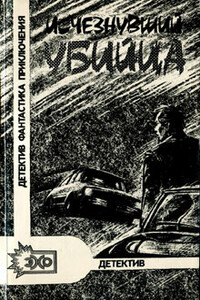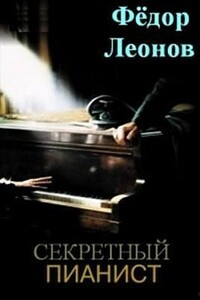Раздумывая, как быть, Юлий склонялся к мысли, что пережитое в заброшенной башне испытание дает ему ныне право на некоторую нескромность. Подмывающая обида, да и скука ожидания тоже, пересиливали опасения наткнуться на упырей, в которых теперь, когда зажили отшибленные ступни, как-то меньше верилось.
Юлий тронул дверной косяк и опустил ногу на верхнюю ступень. В густом, как разведенная сажа, мраке не удавалось разглядеть лестницу. Пробираться к ней пришлось наугад и на ощупь. Далее завернутая винтом лестница вела его сама. Окончательно пропал из виду белеющим молочным туманом вход. Юлий едва дышал, перебирая руками по стене и пробуя ногой камни.
Так продвигался он очень медленно, ступенька за ступенькой, а временами совсем останавливался, прислушиваясь к шорохам темноты. Провал под левой рукой означал, что он вышел на второй ярус. Миновав это место, он снова нащупал направляющую стену. И теперь, поднимаясь все так же тихо, уловил забрезживший впереди свет. Обозначились кривая поверхность стены и ребра ступеней. Слышались невразумительные звуки: неопределенная возня… и шумно прорвавшийся вздох.
Еще десяток ступеней — и Юлий увидел над головой подернутое маревом высокое пространство камеры, которую озаряло множество свечей. Выходящие вовнутрь крепости окна были затянуты плотными тканями. Тянуло пряными запахами, как в окуренной благовониями церкви.
Юлий кашлянул. Потом сильнее. Хлопнул ладонью по стене и позвал в голос:
— Громол! Громол, это я, Юлий!
Никто не откликнулся, но прерывистая возня не прекратилась, а усилилась.
— Громол! — с бьющимся сердцем воззвал Юлий, уже не надеясь на ответ… И поднялся над полом.
Сверкание свечей в золоченых канделябрах, роскошная обстановка, шелк и парча. Громол, в рубашке и легких штанах, лежал навзничь на низком и широком ложе, голова его покоилась на коленях полуодетой девицы. Она держала юношу, накрыв распущенными врозь пальцами и лоб, и глаза. А сама глядела на непрошеного гостя — без удивления, без гнева, без робости. Без всякого живого чувства. Пристально. Как смотрит осторожный зверек, который не имеет еще непосредственной причины обратиться в бегство. Девица молчала, не выказывая ни малейшего желания заговорить. Громол — невозможно было понять, в каком он состоянии, сознает присутствие брата или нет — оставался неподвижен. А Юлий, тот просто онемел.
Поодаль от ложа, ближе к заставленному едой и питьем столу дымилась бронзовая треногая жаровня, испуская струившуюся вверх гарь. Гарь, может быть, и вызывала тупое одурение, которое охватило Юлия.
В неотвязном взгляде девицы мерещилось нечто лисье. Она не была красавицей, эта невысокая, чистенькая, безупречного сложения девушка с тонким станом и крепкими бедрами — лицо ее нельзя было назвать красивым. То была хорошенькая мордочка. Ладненький носик девицы едва ли можно было назвать лисьим, но общее впечатление подавшейся вперед рожицы создавали скошенные лоб и подбородок, припухлые щечки и выпуклые надбровные дуги. Разделенные надвое мелко завитые волосы лежали плотно и ровно, как гладкая шерстка. Из одежды девица имела на себе рубашонку тончайшего шелка, которая нисколько не скрывала ее округлых прелестей.
— Заходи, раз пришел, — молвила девица, не улыбнувшись. Таким спокойным, радушным и сдержанным голосом встречают давнего знакомца. — Заходи, Юлька. Я столько слышала о тебе от Ромки, что, право же, просто влюбилась. А он тебе ничего обо мне не рассказывал?
Сам Ромка, то есть Громол, лежал на спине в полнейшем оцепенении, глаза устремлены вверх на зависшую слоями гарь от жаровни. Лицо его необыкновенно заострилось и пожелтело. Щеки так страшно провалились. А лоб, обтянутый истонченной кожей, казался костяным. Взглянув на брата внимательней, Юлий с испугом осознал, что со времени предыдущей встречи брат ужасно сдал, подточенный все той же неведомой болезнью. В облике явилось нечто безжизненное.
Девица подвинула на своих гладеньких, полных коленях изможденную голову наследника со всклокоченными волосами и приласкала, проведя по щекам кончиками пальцев. Казалось, длинные жемчужные ногти должны были оставлять на сухой коже юноши царапины. И у нее были длинные, словно только что выросшие, не бывшие еще в употреблении, необыкновенно белые зубы.