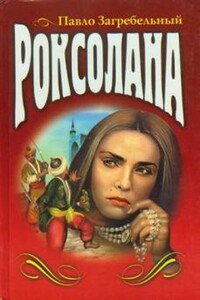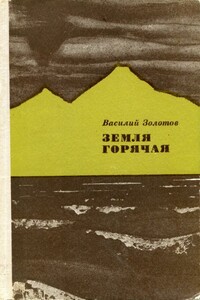Когда вел ее ночью кизляр-ага к султанской далекой ложнице, не мерзла, как по весне, не вздрагивала от страха, стискивала зубы, прочитывала про себя молитвы, не мусульманские, нет, свои, еще отцовы, «Отче наш», «Богородица Дева…», «Достойно есть». Боже единый, вездесущий, всемилостивый! Помоги, сохрани, помилуй, исцели! Обещано, что праведники засияют в царствии Божьем, как солнце. А разве же она не праведница? Разве успела провиниться в свои шестнадцать лет? Почему должна идти к этому человеку, такому темному душой, точно он вышел из преисподней? Почему, почему?
Султан ждал ее нетерпеливо, какой-то словно бы растерянный, вновь, как и тогда, сидел на ложе, только теперь был в тюрбане, беспомощно молчал, смотрел на Хюррем, которая застыла, нагая, лишь с прозрачным платочком на плече, у двери и тоже молчала, глядя на Сулеймана не то испуганно, не то с вызовом.
– Почему же ты молчишь? – спросил он наконец.
Она молчала.
– Подойди ко мне.
В ней так и закричало: «А если не хочу? Если не захочу?» Но не выпустила тот крик, только постояла из упрямства, а потом все же пошла, медленно, пошатываясь и спотыкаясь о ковер, точно пьяная или лунатичка. Если бы она знала, как ее голос мучил Сулеймана все эти месяцы, терзал его душу, не давая покоя ни днем, ни ночью! Как сказано в Священном Писании: «Взглянут на того, кого пронзили они». Да не знала Хюррем о своей власти над султаном, власти неизъяснимой, беспричинной, и потому еще только мечтала о такой власти, подкрадывалась к ней осторожно, как к птичке, которую боишься вспугнуть. Как караван не может идти быстрее, чем он идет (ибо тогда те, кто едет на верблюдах, опередят души свои и растеряют их в беспредельностях дорог), так и она могла продвигаться только со скоростью, зависевшей не от нее, а от него, от человека, которого ненавидела больше всего на свете и в котором в то же время только и могла искать для себя избавления и спасения.
– Ну, чего же ты? Иди быстрее! – точно угадал ее пугливую нерешительность Сулейман. – Ты ведь не боишься меня?
– Боюсь, – облизывая пересохшие губы, шепотом ответила Хюррем.
Сулейман попытался улыбнуться.
– Разве я страшный? Для тебя я никогда не буду страшным. Ты меня понимаешь? Хочешь что-нибудь выпить? Здесь есть даже вино. Ты все понимаешь?
Мешал слова турецкие со славянскими, был необычно возбужден, удивлялся сам себе.
– У меня было достаточно времени, чтобы выучить и турецкий, и арабский, – сказала Хюррем. – Да и персидский.
Султан не поверил.
– Этого не может быть.
Она промолчала. Сулейман налил ей вина.
– Выпей и не молчи.
Она отпила вина. Может, это и не вино, а отрава? И надо хоть знать, как она подействует. Стояла над ложем, садиться отказалась, упорно молчала.
– Ты сердишься на меня за то, что я завоевал славянские земли? – попробовал догадаться султан.
Хюррем пожала плечами. Что ей за дело нынче до всех земель?
– Или, может, за то, что крымский хан, воспользовавшись моим походом, напал на твою землю? – не отставал султан, утаив от Хюррем, что это он велел хану напасть на польского короля, чтобы тот не пришел на помощь своему родственнику – королю венгерскому.
Девушка вся встрепенулась мучительно, услышав о своей родной земле, и снова как бы застыла.
– Я не могу чувствовать себя виноватым перед тобой, ибо султан никогда не бывает виноват, ты должна меня простить и спеть мне, чтобы я услышал твой голос. Прошу тебя.
Она улыбнулась. Отпила еще вина и улыбнулась щедрее. Словно дразня султана, подергала за золотой крестик, который упрямо не хотела снимать. Золото на груди. А в груди? Если бы мог этот человек заглянуть ей в грудь!
– Что спеть?
– Что хочешь.
Она опять затянула турецкую. О девушке и ее красе. «Он биринде май-юзюне бакилир (еще когда она была одиннадцатилетней, на ее месяцеликость заглядывались); он алтисинда петек бал олур (у шестнадцатилетней улей наполняется медом); йирмисинде керван гечер йор олур, йырми биринде бир кьетюйе кул олур (в двадцать один год становится рабыней какого-нибудь негодяя)». Песня была длинной, через все годы, от одиннадцати до двадцати одного, и опять-таки слишком груба для султанского уха, но Сулейман слушал с величайшим наслаждением и радостью, совсем для него не свойственной.