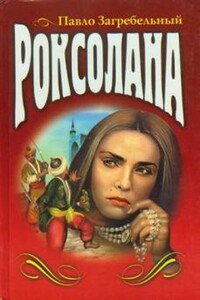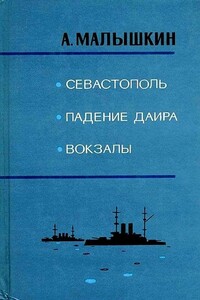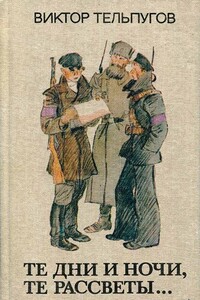Хюррем улыбалась сквозь слезы, лежала молча, а когда принесли сына к груди, не хотела на него и смотреть, чем-то досадил он ей уже одним своим рождением. Что за дитя? Под какою звездой оно зачато, зло или добро пришло с ним в мир? Радость или горе принесет оно своей матери?
А пока принесло огорчение. Потому что та вымечтанная Роксоланой свадьба вышла и не для нее, и не ради нее. Где-то она еще гудела и звенела на весь Стамбул, уже и кончалась, а Хюррем не могла взглянуть на нее хотя бы краешком глаза.
Султан был милостив к своей Хюррем. Снова не стал ждать сорока дней очищения роженицы, не дождался даже четырех, уже на третий день навестил султаншу, показали ему сына Селима, щедро одарил он и мать, и дитя, потом спросил у Хюррем, какое у нее сейчас самое заветное желание.
– Увидеть свадьбу вашей сестры, – слабо улыбнулась Хюррем.
– Но ведь она кончилась! – удивился Сулейман.
– Разве может что-либо кончаться без вашего повеления, мой господин? Вы не можете разве что воскрешать умерших, ибо на то воля Аллаха, все остальное на этой земле в вашей воле, и по вашему высокому повелению всегда может начаться даже то, что давно считалось законченным.
– А вы, моя султанша, разве найдете в себе силы, чтобы подняться так скоро после ваших священных усилий? – спросил заботливо Сулейман.
– Считайте, что я уже поднялась и снова стала вашей наивернейшей служанкой, о мой великодушный повелитель!
Это было чудо. Родила дитя чуть ли не семимесячное, а оно было резвее Мехмеда. Вымученная преждевременными родами, почти умирающая, готова была подняться с постели через три-четыре дня, только бы удовлетворить свое любопытство, созерцая чужое счастье.
Султан велел возобновить торжества на Ипподроме через шесть дней. Для этого спешно был сооружен крытый кьешк, защищенный деревянными кафесами, устланный внутри коврами. Сулейман повез туда свою султаншу, вместе с нею засел на целый день, наблюдая состязания пехлеванов, стрелков, жонглеров и акробатов, любуясь тем, как новые и новые толпы вливались на Ипподром, пили и ели, прославляли своего повелителя, получали подарки и снова прославляли щедрость султана.
Затем в сопровождении вельмож, нарушая вековечные обычаи, взял с собой султаншу и навестил зятя и сестру в их дворце, чтобы узнать, счастливо ли они живут, и вручить им новые щедрые дары. Снова вернулся в кьешк на Ипподром, смотрел теперь, как угощают верных его янычар и раздают им деньги, радовался, что отныне в столице, а следовательно, и во всей державе, воцаряются сила и закон и что его народ с таким весельем встречает султана с султаншей.
А Хюррем сидела рядом с султаном, долгие часы смотрела на неудержимое веселье стамбульских дармоедов, думала о чужом счастье, горько было у нее на сердце, но не выказывала этого перед султаном, улыбалась ему хоть еще и слабо, но бодро, а в душе всхлипывало что-то темное и мучительное: «Стороною дождик идет, ой, стороною да не на мою розочку алую».
Султану даже в голову не приходило, что этой пышной свадьбой, еще не виданной в Стамбуле, он порождает и укрепляет две наиболее враждебные силы в своем государстве, которые рано или поздно должны будут столкнуться и одна из них неизбежно погибнет. Одну из этих сил он неосторожно показал народу и тем ослабил ее стократно, ибо, как высоко вознесенную, народ сразу же ее возненавидел, а другая сила пока оставалась скрытой и от этого была намного сильнее.
Силой явной был Ибрагим, отныне не только великий визирь, но и царский зять. Силой скрытой – Роксолана, время которой еще не настало, но когда-то могло и должно было настать.