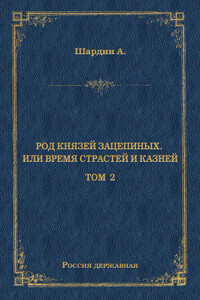С внешней стороны князь Андрей Васильевич казался весьма близкой копией с действительно изящного и утонченного Андрея Дмитриевича, но, разумеется, ни образование, ни понятия Андрея Дмитриевича далеко не могли быть усвоены Андреем Васильевичем. Но первый вопрос того времени был вопрос внешности и приличий, поэтому удивительно ли, что подражание такой внешности не могло не увлечь молодого человека.
Он сидел просто и легко, опираясь одной рукой на ручку кресла, а другой грациозно играя привесками и печатками цепочки своего брегета.
Одеты они были почти одинаково, в светло-голубых кафтанах французского покроя, с блестящими пуговицами из сибирского тяжеловеса и вышитыми золотом петлицами; в белых, атласных, шитых золотом, с жемчужными пуговицами, камзолах, светло-голубых же французских штанах, подхваченных ниже колен застежками, подходящими к пуговицам кафтана; в шелковых чулках и башмаках, затянутых золотыми пряжками, осыпанными мелкими бриллиантами. На обоих были небольшие, слегка напудренные парики, манжеты, воротники и брыжи из тонкого д’алансона. На дяде, кроме того, были еще надеты знаки орденов Андрея Первозванного и Святого Духа и осыпанный бриллиантами портрет императрицы Екатерины I на шее. Несмотря на разность их лет и ту самобытность в племяннике, о которой мы упомянули, в их разговоре, их движениях, их способе держать себя отражался столь одинаковый и столь общий всем тогдашним петиметрам тип, что, взглянув на них, по крайней мере на внешнее положение того и другого, взглянув, как они сидят и разговаривают между собою через уставленный фарфоровыми куклами из саксонского фарфора стол, невольно хотелось спросить: да уж они-то сами не куклы ли? Превосходные, вполне изящные и красивые, но все же куклы, которым с помощью особого таинственного механизма приданы условные, автоматические движения, в виде изящного поворота головы, игры в руках печатками или табакеркой, художественного изгиба корпуса.
Разумеется, вопрос этот особенно вызывался взглядом на племянника, каждое движение которого, несмотря на его изящность, отличалось деланостью, искусственностью, той искусственностью, которою всегда сопровождается заученность и подражательность.
Говорили они между собою по-французски, что избавляет нас от обязанности передавать характер русского жаргона тогдашнего общества, нескончаемо уродовавшего русский язык иностранными словами и оборотами. При этом дядя нередко поправлял племянника, стараясь сообщить ему тот парижский акцент и то действительно французское построение речи, которыми он овладел в совершенстве, прожив в Париже более двадцати лет в том обществе, в котором уменье говорить признавалось первым достоинством человека.
– Ну вот и одолели медведя! – сказал дядя, тонко улыбаясь. – Именно медведя! Так я обыкновенно называю каждый визит свой герцогу, особенно с тех пор, как он герцог. Не правда ли, что герцогская корона пристала к нему, как, по русской поговорке, к корове седло? Между тем он ломается, просто паясничает, желая представить из себя владетельную, царственную особу. Изволь тут не смеяться да еще поддакивать, когда этот, по справедливости, шут хочет передразнивать этикет и обычаи Версаля и выводит свою рябую, неуклюжую, болезненную кухарку, чтобы устроить французский baisemain. Вот бы их показать Мольеру! Это уж именно дворянин во мещанстве. Право, Куракин прав, когда говорит, что на него вместо герцогского венца следовало бы надеть хомут, вместо скипетра дать в руки плеть, а вместо державы – кастрюлю. Была бы картина, достойная его герцогского величия! И настоящие-то немецкие курфюрсты и принцы, нужно сказать правду, бывают тяжеловаты на взгляд, когда захотят представлять из себя королей. А этому, право, всякий раз, как я его вижу, хочется сказать: «Полно, Иоганка, ломать комедию, садись лучше на козлы, это будет тебе гораздо сподручнее».
– Однако ж он был очень приветлив, а она… Скажите, дядюшка, неужели ни он, ни она даже по-французски не говорят?
– При мне не говорят никогда, хотя и сказывают, будто она болтает кое-как через пень-колоду, с акцентом немазаной телеги. А он, он совсем не образован и, кроме как на своем курляндском жаргоне, ни на каком другом языке не говорит. Он ничему не учился, ничего не знает; говорят, он даже и писать-то по-немецки выучился, став уже курляндским камергером.