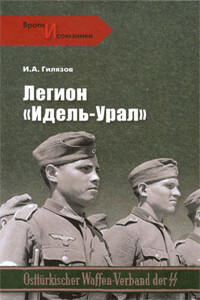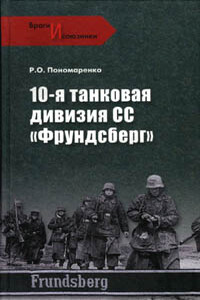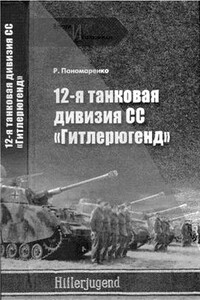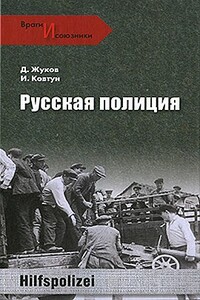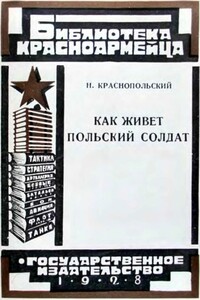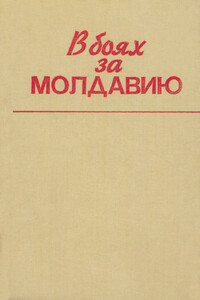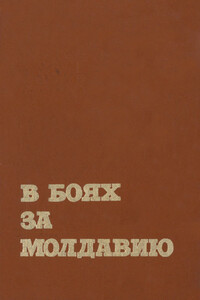Как уже отмечалось, первоначальные планы германского руководства в отношении советских военнопленных не предусматривали привлечения последних к борьбе с СССР. Более того, в приказах, касавшихся обращения с военнопленными, декларировалось, что «большевистский солдат» крайне опасен и коварен, он «утратил всякое право, чтобы с ним обращаться, как с честным солдатом», и т. д. В приказе ОКВ от 8 сентября 1941 г. говорилось, что применение оружия против советских военнопленных считается, «как правило, законным». Помимо этого, в середине июля 1941 г. было подписано соглашение между ОКВ и РСХА о необходимости с помощью эсэсовских команд выявлять «неприемлемые» в политическом и расовом отношении элементы среди военнопленных[52].
Впрочем, с первых же дней войны среди немецких военных и разведчиков начали проявляться настроения, оппозиционные вышеприведенным установкам. Так, в приказе командующего 47-м (XLVII) танковым корпусом Иоахима Лемельзена от 25 июня 1941 г. констатировалось: «Я обнаружил, что имеют место бессмысленные расстрелы как пленных, так и гражданских лиц. Русский солдат, который храбро сражался и взят в плен в форме, имеет право на пристойное обращение. Мы хотим освободить гражданское население от ига большевизма, и мы нуждаемся в рабочей силе… Эта инструкция ничего не меняет в отношении приказа фюрера об искоренении партизан и большевистских комиссаров»[53].
Колонна советских военнопленных направляется в германский тыл. Август 1941 г.
Барон Владимир Каульбарс на допросе в 1944 г. заявил, что в начале войны в «национальную русскую добровольческую армию… для борьбы против большевизма» можно было привлечь 80 % советских военнопленных[54].
В любом случае разведчики из абвера и СД с первых дней войны включились в работу по вербовке коллаборационистов в лагерях для военнопленных.
И. Дугас и Ф. Черон пишут, что в штатах лагерного персонала имелись офицеры абвера и некоторое время представители СД: «Между офицерами абвера и СД существовало определенное соперничество, но не всегда. Нередко эти два учреждения находились в остро враждебных отношениях»[55].
17 июля 1941 г. Гейдрих подписал оперативный приказ № 8, адресованный командам полиции безопасности и СД «Об отношении к советским военнопленным». Несмотря на то что основной объем документа посвящен механизму экзекуций над политически враждебными категориями советских военнопленных, глава РСХА также требует от своих подчиненных выделять среди русских, находящихся в лагерях, лиц, «заслуживающих доверия… которых поэтому можно будет использовать в операциях по восстановлению оккупированных областей». Здесь же говорится, что «заслуживающих доверия лиц следует вначале привлечь к работе по фильтрации и к исполнению других заданий руководства лагеря… Если они оказываются подходящими для операций по восстановлению в оккупированных областях, то следует отказывать ходатайству об их возвращении на родину только в том случае, если они представляют интерес для контрразведывательной службы». В приложении 2 к этому приказу специально оговаривается, что необходимо находить среди пленных элементы, заслуживающие доверия, «невзирая даже на то, что речь идет о коммунистах»[56].
27 августа и 12 сентября 1941 г. Гейдрих подписал дополнительные директивы, касающиеся основных направлений деятельности команд полиции безопасности и СД в лагерях для военнопленных. В частности, во втором из указанных документов еще раз подчеркивалось, что «задачей оперативных команд полиции безопасности и СД является выявление не только подозрительных элементов, а также и тех надежных элементов вообще, которые могут пригодиться для восстановительной работы в Восточных областях… Я предписываю, чтобы в еженедельных отчетах обращали внимание на пункт „4“ (число выявленных лиц, не внушающих подозрения). О военнопленных, не внушающих подозрения, которые перед этим занимали в советско-русском хозяйстве руководящие посты, следует особо указывать на отрасль их работы и последнее место службы»[57].
Шеф Главного управления имперской безопасности Р. Гейдрих