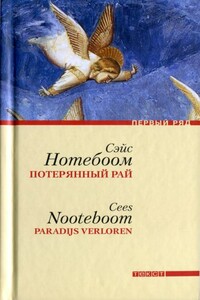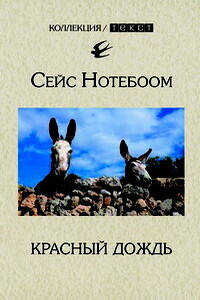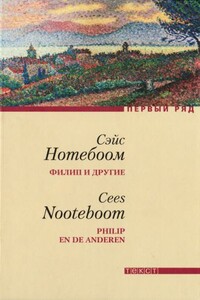Они что, заранее репетируют? — думал Инни. Собачий век не больно-то долог, a при одной гостевой порции гуляша в неделю здесь явно не ожидали большого количества визитеров. Напрашивался единственный ответ — такие доклады, проповеди, декламации происходили и в одиночестве, причем пес обеспечивал генерал-бас, акценты и выразительность. Воздух, air
— это гениальное животное научилось окрашивать тревогой и одобрением незримый воздушный поток, что окружает нас и отчасти струится сквозь нас, улавливай ноты рока и враждебности, не давая им повисать в остальном, безразличном воздухе добычей губительного маятника стенных часов, но в виртуозном единении с одноглазым хозяином наполняя их отзвуком только что сказанного, в котором угадывалось и легкое, а то и болезненное подхлестывание, заставлявшее солиста держать достигнутое напряжение.
8
Напряжение, как Инни предстоит узнать, — сила отрицательная. Понял он все это не в первый вечер, но тот первый вечер положил начало его дружбе с Арнолдом Таадсом. Одна из особенностей его натуры (Инни и об этом тогда не подозревал, ведь, что бы он там ни думал, он попросту еще слишком мало прожил) заключалась в том, что людей, которым довелось однажды привлечь его внимание, он от себя уже не отпускал. Сплошь и рядом это были те, кого окружающие, то бишь обычный народ, звали «чудиками» и совершенно не могли увязать с саркастическим, светским обликом самого Инни. «Гляньте, очередной Иннин экспонат со свалки, из дурдома, из особой коллекции, из преисподней». «С кем это я видел тебя на днях в Схипхоле?! [16]» «Как ты можешь целый вечер сидеть с таким субъектом?» «Ты что, встречаешься с этой девицей?»
Но это все было позднее.
Сейчас мы имеем дело с Арнолдом Таадсом, человеком, который не сумел наладить отношения с миром и потому громогласно и резко от этого мира отрекался, словно был его властелином. Будь сей вестник отрицания пятым евангелистом, символом его должно бы сделать чайку, одинокую серую фигуру на скале, прорисованную на более темном фоне зловещего неба. Инни видел чаек в фильмах о природе, телеобъектив подсматривал за ними с близкого расстояния, и казалось, они совсем рядом. Птицы внезапно разевали клюв, испускали пронзительный вопль ярости и предостережения, несколькими мощными махами крыльев взмывали в вышину и, по-прежнему одиноко, плыли прочь на незримом, легонько зыблющемся воздушном потоке. И опять слышался крик, снова и снова, словно что-то распарывалось, с треском рвалось.
Пробили часы. Человек и пес встали.
— Я провожу тебя на автобус, — сказал Арнолд Таадс.
В передней он извлек из стойки деревянный предмет вроде зонтика, обтянутого блестящим пергаментом.
— Это паронг, — пояснил он, и в самом деле, как только они вышли на улицу, по натянутой поверхности жестко, отрывисто застучи дождь. Все правильно. Шагая к калитке, Инни оглянулся на дом и еще сильнее, чем в комнате, ощутил фанатичное одиночество, которому обрек себя этот человек. У страдания множество форм, и, хотя Инни, восстанавливая позднее в памяти этот день, наверняка уже порядком настрадался, все ж таки удивительно, что человеку его возраста etat cru (Квинтэссенция (фрю.)) страдания открылась в ту минуту столь ярко и отчетливо. Страдание не как случайность, но как добровольная, не подлежащая отмене кара. Не подлежащая отмене, ибо другие не имели к ней касательства, ибо этот человек, так пружинисто и спортивно шагавший рядом, точно атлет, у которого мировой рекорд, считай, в кармане, страдал явно от себя самого, в себе самом. Инни тогда не умел еще сформулировать свое впечатление, но понимал, что здесь пахнет смертью, а из этого царства уже не вернешься, стоит лишь туда забрести — по несчастью или просто по недосмотру.
9
Инни облегченно вздохнул, когда автобус, точно по расписанию, отъехал от остановки.
Арнолд Таадс и его пес уже успели исчезнуть в ночи, в дожде, в лесу. Автобус, поезд, долгий пеший путь по улицам Хилверсума, где в садах, словно мрачные глыбы надгробий, темнели особняки. Теплые, тяжелые запахи цветов после дождя и среди всей этой сладости — незнакомый привкус расставания. С чем именно, он еще не ведал, но расставания не избежать, это было ясно.