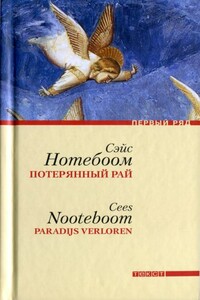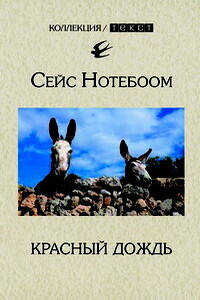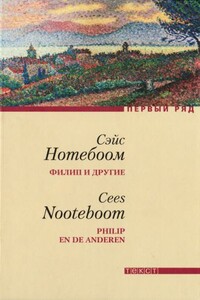Инни никогда не бывал в горах, но вполне) мог зримо представить себе этого человека — среди белого ледяного мира. Четыре швейцарские открытки окаймляют маленький пост. Человек в той же замшевой куртке, что и теперь, у его ног спит собака. Настает время пить виски, штормовой ветер завывает подле хижины, открытки затуманиваются. Из рации долетают треск и вздохи далекого презренного мира. Человек встает, подходит к шкафчику, достает бутылку виски и стакан. (Прежде он глядит на часы.) Потом прикладывает к стакану два прижатых друг к другу пальца, касаясь ими столешницы, хотя нет, чуть выше, ведь надо учитывать толщину стеклянного донышка, наливает. Буль-буль. Немного погодя отхлебывает глоток. Вкус дыма и лесного ореха.
— И однажды я подумал: пейзаж, который своим, скажем так, объективным величием наводит на мысль о Боге, с тем же успехом безусловно может свидетельствовать и об его отсутствии. Бог создан по образу и подобию людей, со временем каждый приходит к такому выводу, исключая разве что тех, кто вообще никаких выводов не делает. А людей я презирал, в том числе, — тут он слегка возвысил голос, придав этим словам подчеркнутую самостоятельность, так что они обособленно и многозначительно повисли в пространстве между собеседниками, — по сути, и себя самого. Я сам себе противен. И хотя очень люблю собак и горы, представить себе Бога в образе собаки или горы тоже не мог. Вот так идея Бога исчезла из моей жизни, из жизни лыжника, мчащегося вниз по склону, в долину. Ты можешь вообразить такую картину? Издалека человеческая фигурка кажется черной, сама себе каллиграф, она выписывает некий знак на белом листе снега. Долгое, изящное движение, таинственная, не поддающаяся прочтению буква, химера, на миг запечатленная и тотчас исчезнувшая. Лыжник пропал из глаз, он чертил собою и ничего не оставил. Впервые я был совсем один на свете, но потребности в Боге не чувствовал, ни тогда, ни сейчас. Слово «Бог» звучит как ответ, вот в чем особенная его губительность: им слишком часто пользовались как ответом. А лучше бы ему дать имя, звучащее как вопрос. Я не просил делать меня одиноким на свете, но ведь и никто не просил. Ты когда-нибудь задумываешься о таких вещах?
Инни уже усвоил, что вопросительный тон подобных фраз подразумевает не вопрос, а приказ. На него заведено досье, его обмеряют, между ним и этим человеком надлежит оформить некие документы. Но что он должен говорить? Им овладело странное безразличие. Тепло, приглушенные краски цветов, легонько покачивающиеся липы над головой, множество мелких событий, происходивших одновременно, целая фабрика чувственных восприятий, пес, который потянулся и, помедлив, перебрался на солнечное местечко, вся эта новая жизнь, что началась нынче в полдень, а казалась уже такой долгой, громовой голос, без умолку рассуждавший о себе, виски, которое он пил, — все это вызывало ощущение отрешенности. Среди такого множества происшествий можно прекрасно обойтись и без него. Он был переполненной чашей. И если сейчас заговорит, то расплещет все свои новые, бесценные ощущения. Он слышал, что говорил этот человек, но о чем, собственно, шла речь? «Ты когда-нибудь задумываешься о таких вещах?» Что значит «задумываться»? Он никогда не видел Бога как лыжника, мчащегося вниз по склонам. Бог был винным пятном на облачении, кровью старца на ледяной каменной ступени алтаря. Но этого Инни не сказал. Сказал другое:
— Нет, никогда.
— Почему?
— Меня это не интересует.
— Вот как.
Инни понимал, что от него ждали ответа более космического размаха, но такового он не имел.
— Ты хоть что-нибудь знаешь об экзистенциализме?
А ты сам прикинь. Три вечера потратили на споры, в тот последний интернатский год. Сартр, право выбора, Жюльет Греко [14], погребки со свечами, черные свитеры, ребята, что побывали в Париже и привезли оттуда сигареты «Голуаз» — в Нидерландах такие не продавались. Холодный камамбер и багеты, которые, по словам тех же самых ребят, не идут ни в какое сравнение с настоящими, французскими. Те намного вкуснее, с хрустящей корочкой. Отчаяние и отвращение тоже каким-то образом были связаны со всем этим. Человек брошен в мир. Инни при этом невольно думал об Икаре и иных великих поверженных — Иксионе, Фаэтоне, Тантале, всех этих парашютистах без парашюта, что были родом из мира богов и героев и интересовали его много больше, чем диковинные абстракции, не вызывавшие в нем ни малейшего отклика. Бессмысленный мир, куда ты брошен, существование, которое само по себе не значило ничего и обретало значение только через тебя. Это по-прежнему слегка отдавало церковью, подозрительно припахивало мученичеством. Что ни говори, думал Инни, во многом это до сих пор оживает через вкус запах «Голуаз», крепкий, горький, ни с чем ней сравнимый. Запах, в котором чувствовался какая-то опасность, табак, горькими чешуйками липнувший к языку, грубая пачка цвета синего бильярдного мелка. Вместе с сигаретой можно было выкурить свой страх. Но такого он этому человеку ни за что не скажет.